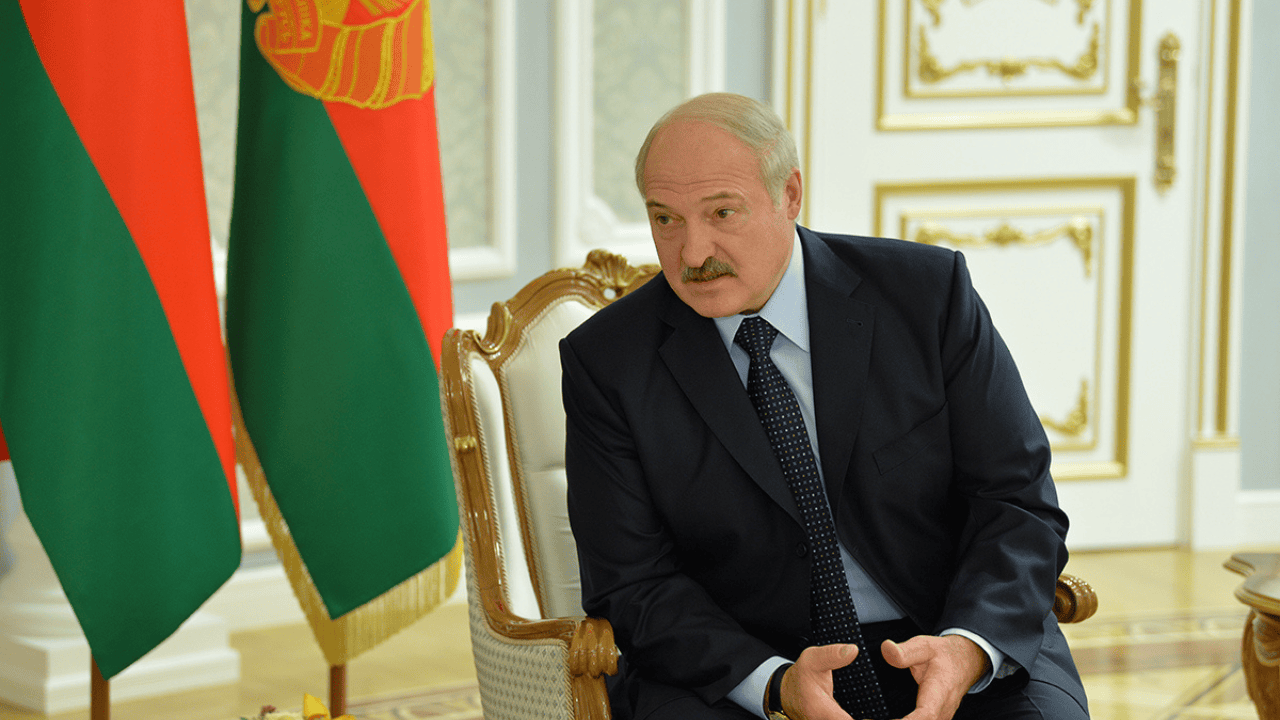Творчество — сущность человечества.
«Нация, действительно достойная этого имени, — писал Пясецкий, — является центром идеи цивилизации, идеи социальной реконструкции, идеи универсальности. Вера в такую идею, вера в миссию, которая должна быть выполнена в мире, вера в необходимость обретения верующих – создает величие нации и придает ей нравственное отношение к другим».
Против лозунга обороны не могут выступать враги империализма, потому что тогда она обречена на поражение, и необходимо сформулировать «позитивную программу, программу империализма польских национальных, культурных, социальных, экономических идей». Наступательная программа. В результате он упрекнул необходимость иметь большие стремления, предъявлять большие требования. Необходимо иметь амбиции, как он пишет, выйти в мир с великой идеей, достойной великой нации. Надо иметь амбиции, рассчитанные не на сотни квадратных километров, а перед лицом земного шара. Надо иметь амбиции стать центром реконструкции, создать такой вклад в цивилизационную структуру человечества, которая сохранилась бы и тогда, спустя долгие века, когда Польши может и не быть, но будет польской цивилизацией. Как живет сегодня римская цивилизация и наша папская гордость вассализмом по отношению к ней. Эти лозунги мирового класса – не национальная мания величия и не утопическая фантазия. Это просто ощущение реальности. [...] Требуется только мужество. [...] Прежде всего, мужество самосознания, мужество железных следствий, мужество веры в отдаленные цели. Вера в Польшу. "
Святые слова, сэр...
Культура и империализм. Вокруг концепции Станислава Пясецкого
Автор Rafał Łętocha
3 апреля 2025 г.
Станислав Пясецкий известен прежде всего как главный редактор двух важных работ, связанных с национальным лагерем: «Легко с моста» и «Вальки».
Станислав Пясецкий известен прежде всего как главный редактор двух важных работ, связанных с национальным лагерем: «Легко с моста» и «Вальки».

Основанная им в 1935 году «Легко с моста» задумывалась как своего рода противовес либеральным «Литературным новостям», владеющим в какой-то момент правительством душ среди польской разведки. Пясецкий стремился бросить вызов гегемонистской позиции этого периодического издания на рынке культурной прессы Второй республики. Это было в некоторой степени успешным, учитывая, что «Простой с моста» был почти равен изданию журнала под редакцией Грыджевского, достигнув 15 000 экземпляров, и что сам журнал не был одним из многих национальных периодических изданий на рынке прессы, но стал чем-то вроде культурного учреждения.
Кароль Збышевский указал, что «Пясецкий был душой всего еженедельника. За четыре года ни одно число не вышло без него. Он не уходил больше пары дней, не позволял себе болеть. Какое первое условие, чтобы быть хорошим редактором? Сиди на месте! Редактор должен быть в редакционной коллегии, как клерк магазина или офисный клерк. Есть сотни вещей, которые может сделать только главный редактор. У Пясецкого был этот «шитцфлейш». Он сидел в своем кабинете, как мотылек. По всей Варшаве не было телефона, часов и дней... "
Читателями «Прямого с моста» были молодые люди. Пясецкий хотел создать трибуну из письменности, на которой могли бы столкнуться взгляды поколения от двадцати до тридцати пяти лет. Это было поколение, имевшее вполне определённое идейное отношение, а точнее два противоположных отношения: национальное и марксистское. Пясецкий довольно рано заметил, что, несмотря на различия в мировоззрении, у молодежи тоже много общего. Письмо предназначалось для раскрытия этого сообщества.
Поэтому Войцех Васютинский упомянул, что Пясецкий первоначально очень широко отказался от сетей.
На самом деле в первый период сочинение было в хорошем либеральном смысле — в его сочинениях публиковались тексты авторов с разными взглядами, не ограничиваясь лицами, связанными с организацией или идеей национального лагеря.
Конечно, связанные с ним статьи публицистов были: Ян Байковский, Ян Белатович, Адам Добошинский, Тадеуш Дворак, Кароль Стефан Фриц, Ян Корольц, Ян Мосдорф, Стефан Нибудек, Витольд Новосад, Владислав Пьетрзак, Мариан Реутт, Васютинский, Ежи Зджеховский.
Тем не менее, мы также находим в периодическом издании также публикации консерваторов, таких как Юлиан Бабинский, Лешек и Милош Гембаржевский, Казимеж Мариан Моравский и Ксаверий Прушинский, неопоган со Станиславом Шукальским и Яном Стачнюком, таких как Ежи Браун и Мирослав Старост, а также многих других известных тогда или позже публицистов, писателей и ученых, от коммунистов и социалистов до католиков и консерваторов, таких как Юзеф Чапский, Витольд Гомброжик, Леон Кручковский, Станислав Млодожек, Игнаций Хржановский, Фердинанд Гётель, Конрад Горский, Роман Ингарден, Кароль Иржиковский, Стефан Колячковский, Кароль Людвик Конински, Зофия Косак, Ян Ежи Туромуньский, Ежи Морцинек, Казимир, Станислав Вонски, Станислав Вробовски, Станислав Вробовский, Станислав Несмотря на то, что большинство постоянных публицистов и редакторов со Станиславом Пясецким стояли во главе их отношений с молодым поколением националистов, и написание имело четкий идеологический профиль, мы с самого начала имели дело с большой открытостью для авторов с разными взглядами.
Культура, дурак
Как публицист и идеолог Пясецкий, он посвятил свое место культурным вопросам. Культура должна, по ее мнению, влиять на национальную жизнь и вырастать из нее, в том числе и суй-генериссистема соединённых сосудов. Норвид писал в «Прометидионе» о художнике как организаторе национальной психики, Пясецкий также аналогичным образом рассматривал роль и задачи культурной элиты.
Поэтому он критиковал отделение творчества, литературы от жизни, социальной почвы, национальной, поклонение игре формой, словом, искусству за искусство. Пересматривая поэзию Леопольда Стаффа, он с угрызениями совести писал, что «жизнь — могущественная эпопея, она напряжённа в драме и трагедии — и поэзия была ещё лирической о цветах и птицах, о весне и сосне, об акациях и праздниках».
По его мнению, перед искусством стоят огромные задачи. Это только тогда, когда «настоящее искусство, когда общество необходимо, когда оно способно ходить со временем и сопереживать своему духу, и оно не тащит себя в хвост». Он не стеснялся говорить о поэзии, литературе, необходимой и ненужной, несмотря на то, что это вызвало бы обвинения в утилитаризме или их инструментализации. Обсуждение книги Джона Непомюцена Миллера На Руинах Гренады он писал, что это должно быть «дело, а не просто красота духа». Чтобы это было возможно, однако, создатель должен иметь связь с реальной жизнью, обычными людьми, не зацикливаться на кругах взаимного обожания и ограничивать свои контакты так называемой художественной богемой. Она должна пронизывать социальную и национальную жизнь, формировать ее, изменять, совершенствовать, обогащать.
Одним из ключевых понятий, появляющихся в публикациях Пясецкого, является термин «творение». Оно относится не только к сфере, связанной с искусством или культурой в более узком смысле слова, потому что каждое действие человека должно иметь характер творения.
Как публицист и идеолог Пясецкий, он посвятил свое место культурным вопросам. Культура должна, по ее мнению, влиять на национальную жизнь и вырастать из нее, в том числе и суй-генериссистема соединённых сосудов. Норвид писал в «Прометидионе» о художнике как организаторе национальной психики, Пясецкий также аналогичным образом рассматривал роль и задачи культурной элиты.
Поэтому он критиковал отделение творчества, литературы от жизни, социальной почвы, национальной, поклонение игре формой, словом, искусству за искусство. Пересматривая поэзию Леопольда Стаффа, он с угрызениями совести писал, что «жизнь — могущественная эпопея, она напряжённа в драме и трагедии — и поэзия была ещё лирической о цветах и птицах, о весне и сосне, об акациях и праздниках».
По его мнению, перед искусством стоят огромные задачи. Это только тогда, когда «настоящее искусство, когда общество необходимо, когда оно способно ходить со временем и сопереживать своему духу, и оно не тащит себя в хвост». Он не стеснялся говорить о поэзии, литературе, необходимой и ненужной, несмотря на то, что это вызвало бы обвинения в утилитаризме или их инструментализации. Обсуждение книги Джона Непомюцена Миллера На Руинах Гренады он писал, что это должно быть «дело, а не просто красота духа». Чтобы это было возможно, однако, создатель должен иметь связь с реальной жизнью, обычными людьми, не зацикливаться на кругах взаимного обожания и ограничивать свои контакты так называемой художественной богемой. Она должна пронизывать социальную и национальную жизнь, формировать ее, изменять, совершенствовать, обогащать.
Одним из ключевых понятий, появляющихся в публикациях Пясецкого, является термин «творение». Оно относится не только к сфере, связанной с искусством или культурой в более узком смысле слова, потому что каждое действие человека должно иметь характер творения.
Ядром критики капитализма, которую мы находим в публикациях Пясецкого, является, например, убеждение, что он отвечал за творческое выражение человека. Поэтому он утверждал, что величайшим грехом капиталистической системы является не материальная эксплуатация, а «преступление духовного обнищания человека». Творение есть сущность человечества, лишающая людей возможности творческого действия, поэтому для Пясецкого оно является выражением дегуманизации, овеществления человека, деградации до животного уровня.
Культура и работа
Лекарство от этих недостатков, как и многие националисты или консерваторы того времени, приведет к деконцентрации производства. Однако она не ускользает в какой-то посредственности, примитивизме или гуманизме, стоя в положении, что дальнейшее развитие техники будет способствовать возможности снятия крупнокапиталистической системы и введения экономической деконцентрации.
Он подчеркнул, что Экономическая жизнь, технологии и культура тесно связаны.Технический прогресс, в конце концов, дитя воображения и культуры. «Без рассказа о летающем ковре, — писал редактор «Легко с моста», — сегодня не было бы аэроплана, потому что не было бы представления об аэроплане». [...] Мне кажется, что неизвестный рассказчик о летающем ковре не менее достоин восхищения, чем братья Блериот и Райт, если не больше». Настоящим отцом современной техники, по мнению Пясецкого, является не Эдисон или другой великий ученый или изобретатель, а Юлиус Верн. Норвид, упомянутый ранее в эпилоге «Прометидион», заявил, что одной из главных причин трагедии польской культуры является разрыв между «словом народа и словом написанным и выученным» и что «ни одно общество не выстоит, и ни одна нация не выдержит, так как через работу традиционной гармонии соединяются слово народа и слово общества в двух сторонах». Поэтому он призывал к разрыву связей, писал об искусстве как об «освобождении от работы», потому что «даже самые материальные вещи — эти изобретения, которые делает человек, также спутники искусства — или, по крайней мере, источники изобретений без всякого сомнения».
Пясецкий, как мы видим, в принципе указывает на то же самое, говорит о необходимости определенного укоренения культуры и специфической национальной солидарности, обобществления ее и непосредственного вхождения в кровообращение. Однако это не значит, что он требует, чтобы литература превратилась во что-то вроде агитпропа. Напротив, он воздерживался от идей инструментализации литературы в чисто политических целях, т. е. превращения ее в пропагандистскую трубку той или иной партии. Оценка ценности книги, как он писал, не может зависеть от того, насколько автор мог «удовлетвориться политическими групповыми амбициями, а от того, насколько органично он мог смешать свою идеальную, религиозную и национальную точку зрения с материалом романа».
К культурному империализму
При обсуждении культурных вопросов, однако, Пясецкий постулировал прежде всего ее динамизм, требуя, чтобы он был включен в мировую обрабатывающую работу, а не просто созерцал его пассивно. Он потребовал перевести польскую психику из оборонительной в наступательную. По его мнению, оборонительные элементы начинают вытекать на поверхность и доминировать в XVI—XVII веках, что должно было стать главной причиной потери Польшей смысла, силового положения и, наконец, полного падения польского государства.
Этот процесс должен был принять динамику в годы разделов, когда возрождение национальных чувств в Европе нашло Польшу разделенной разделителями, которые должны были поставить на оборонительный характер польский патриотизм. Пиасеки подчеркнул: Наши национальные песни о слове "нет": "Польша еще не умерла", "Я не оставлю землю, откуда принадлежит наша семья". [...] На самом деле даже понятие «свобода» мы предпочитали формулировать отрицательно: «независимость». Польская поэзия и польская песня, верно отражающие нашу национальную чувствительность, настроены на ноту защиты и жертвы. [...] Но ведь оборона была и главной заповедью Польши в годы нашего политического плена. Защита веры, защита языка, защита обычаев, защита национальности».
Новый национализм
Поэтому нам нужно найти новую идею, создать новую динамичную культуру, цивилизационный центр. «Нация, действительно достойная этого имени, — писал Пясецкий, — является центром идеи цивилизации, идеи социальной реконструкции, идеи универсальности. Вера в такую идею, вера в миссию, которая должна быть выполнена в мире, вера в необходимость обретения верующих – создает величие нации и придает ей нравственное отношение к другим».
Ясно, что не только с точки зрения национальных интересов, но и с точки зрения национальной миссии, надлежащее осуществление которой, однако, должно служить этим интересам. Можно сказать о некоторых мессианских элементах или, вернее, используя терминологию Николая Бирдиаева, миссионера. Для русского философа миссионерство — это своего рода секуляризованный мессианизм, в котором отсутствуют суи генерисовые религиозные импульсы, придающие миссии сотериологическое измерение или входящие в нее в милленаристской схеме спасения. Это не обязательно должна быть какая-то национальная мания величия.
Хосе Ортега-и-Гассет писал о двух основных типах человека.
Культура и работа
Лекарство от этих недостатков, как и многие националисты или консерваторы того времени, приведет к деконцентрации производства. Однако она не ускользает в какой-то посредственности, примитивизме или гуманизме, стоя в положении, что дальнейшее развитие техники будет способствовать возможности снятия крупнокапиталистической системы и введения экономической деконцентрации.
Он подчеркнул, что Экономическая жизнь, технологии и культура тесно связаны.Технический прогресс, в конце концов, дитя воображения и культуры. «Без рассказа о летающем ковре, — писал редактор «Легко с моста», — сегодня не было бы аэроплана, потому что не было бы представления об аэроплане». [...] Мне кажется, что неизвестный рассказчик о летающем ковре не менее достоин восхищения, чем братья Блериот и Райт, если не больше». Настоящим отцом современной техники, по мнению Пясецкого, является не Эдисон или другой великий ученый или изобретатель, а Юлиус Верн. Норвид, упомянутый ранее в эпилоге «Прометидион», заявил, что одной из главных причин трагедии польской культуры является разрыв между «словом народа и словом написанным и выученным» и что «ни одно общество не выстоит, и ни одна нация не выдержит, так как через работу традиционной гармонии соединяются слово народа и слово общества в двух сторонах». Поэтому он призывал к разрыву связей, писал об искусстве как об «освобождении от работы», потому что «даже самые материальные вещи — эти изобретения, которые делает человек, также спутники искусства — или, по крайней мере, источники изобретений без всякого сомнения».
Пясецкий, как мы видим, в принципе указывает на то же самое, говорит о необходимости определенного укоренения культуры и специфической национальной солидарности, обобществления ее и непосредственного вхождения в кровообращение. Однако это не значит, что он требует, чтобы литература превратилась во что-то вроде агитпропа. Напротив, он воздерживался от идей инструментализации литературы в чисто политических целях, т. е. превращения ее в пропагандистскую трубку той или иной партии. Оценка ценности книги, как он писал, не может зависеть от того, насколько автор мог «удовлетвориться политическими групповыми амбициями, а от того, насколько органично он мог смешать свою идеальную, религиозную и национальную точку зрения с материалом романа».
К культурному империализму
При обсуждении культурных вопросов, однако, Пясецкий постулировал прежде всего ее динамизм, требуя, чтобы он был включен в мировую обрабатывающую работу, а не просто созерцал его пассивно. Он потребовал перевести польскую психику из оборонительной в наступательную. По его мнению, оборонительные элементы начинают вытекать на поверхность и доминировать в XVI—XVII веках, что должно было стать главной причиной потери Польшей смысла, силового положения и, наконец, полного падения польского государства.
Этот процесс должен был принять динамику в годы разделов, когда возрождение национальных чувств в Европе нашло Польшу разделенной разделителями, которые должны были поставить на оборонительный характер польский патриотизм. Пиасеки подчеркнул: Наши национальные песни о слове "нет": "Польша еще не умерла", "Я не оставлю землю, откуда принадлежит наша семья". [...] На самом деле даже понятие «свобода» мы предпочитали формулировать отрицательно: «независимость». Польская поэзия и польская песня, верно отражающие нашу национальную чувствительность, настроены на ноту защиты и жертвы. [...] Но ведь оборона была и главной заповедью Польши в годы нашего политического плена. Защита веры, защита языка, защита обычаев, защита национальности».
Новый национализм
Поэтому нам нужно найти новую идею, создать новую динамичную культуру, цивилизационный центр. «Нация, действительно достойная этого имени, — писал Пясецкий, — является центром идеи цивилизации, идеи социальной реконструкции, идеи универсальности. Вера в такую идею, вера в миссию, которая должна быть выполнена в мире, вера в необходимость обретения верующих – создает величие нации и придает ей нравственное отношение к другим».
Ясно, что не только с точки зрения национальных интересов, но и с точки зрения национальной миссии, надлежащее осуществление которой, однако, должно служить этим интересам. Можно сказать о некоторых мессианских элементах или, вернее, используя терминологию Николая Бирдиаева, миссионера. Для русского философа миссионерство — это своего рода секуляризованный мессианизм, в котором отсутствуют суи генерисовые религиозные импульсы, придающие миссии сотериологическое измерение или входящие в нее в милленаристской схеме спасения. Это не обязательно должна быть какая-то национальная мания величия.
Хосе Ортега-и-Гассет писал о двух основных типах человека.
- некоторые требуют себя, берут на себя ответственность и подвергают себя опасности;
Другие, с другой стороны, предполагают, что жить означает жить как они есть, не принимая никаких вызовов или усилий для самосовершенствования.
Точно так же польскую миссию Пясецкий будет понимать прежде всего как обязательство, бремя, задачу. Он также указал на существование двух типов национализма. Первый из них изменил национальные отношения через колонизацию, репарацию национальных меньшинств или физическое истребление. Национализм нового типа решил их, создав инклюзивную идею, направленную на интеграцию соседних национальностей и построение новой цивилизации через этот процесс.
Польша из-за своего геополитического положения не может следовать только оборонительным идеям.
Польша из-за своего геополитического положения не может следовать только оборонительным идеям.
Проталкивание между двумя агрессивными империями заставляет Пясецкого развивать свой империализм. Кажется, Пясецкий, или дойдет до этого, или Польша будет раздавлена двумя империями, стремящимися неизбежно противостоять.
Против лозунга обороны не могут выступать враги империализма, потому что тогда она обречена на поражение, и необходимо сформулировать «позитивную программу, программу империализма польских национальных, культурных, социальных, экономических идей». Наступательная программа.
В результате он упрекнул необходимость иметь большие стремления, предъявлять большие требования.
Необходимо иметь амбиции, как он пишет, выйти в мир с великой идеей, достойной великой нации. Надо иметь амбиции, рассчитанные не на сотни квадратных километров, а перед лицом земного шара. Надо иметь амбиции стать центром реконструкции, создать такой вклад в цивилизационную структуру человечества, которая сохранилась бы и тогда, спустя долгие века, когда Польши может и не быть, но будет польской цивилизацией. Как живет сегодня римская цивилизация и наша папская гордость вассализмом по отношению к ней. Эти лозунги мирового класса – не национальная мания величия и не утопическая фантазия. Это просто ощущение реальности. [...] Требуется только мужество. [...] Прежде всего, мужество мыслить самостоятельно, мужество железных следствий, мужество верить в отдаленные цели. Вера в Польшу. "
Резюме
Пясецкий, как мы видим, делал акцент на дополитических или метаполитических вопросах, признавая, что условием sine qua non является рост политического значения Польши, сохранение Польшей самостоятельного существования – как он заявлял, учитывая геополитическую ситуацию, возможно только в ситуации обретения властного положения – являются преобразования в сфере культуры. Он сказал не меньше, не больше, что эта культура должна быть основательно обработана, надо догонять в этой области, надо, наконец, выиграть за нее битву, тогда можно будет только мечтать об изменениях в других сферах, без этой основы, жесткий фундамент для любых попыток реформ фактически будет строиться на песке.
Используя марксистский язык, он указал на первенство надстройки над базой, на которую в свое время начнет обращать внимание Антонио Грамши или франкфуртцы, и на то, что впоследствии с такой силой он поднимет так называемые новые правые, акцентируя в первую очередь на борьбе за культурную гегемонию, те ценности, которые хотя и не имеют прямого отношения к непосредственным политическим вопросам, но оказывают на них серьезное влияние. Этой цели должен был служить «Простой с моста».
Констатации и идеи такого рода не были изолированы. В годы оккупации творцы, связанные с написанием «Искусство и нация», по следу Пясецкого будут винить в сентябрьском поражении польские культурные и творческие слои, которые, по их мнению, изолировали себя от общества в башне из слоновой кости, не имея никаких амбиций влиять на реальность, отчуждая себя от реальной жизни и относясь к культуре с точки зрения юмора и прихоти. Поэтому они постулировали позицию культурного империализма.
Похожие рассказы можно найти и в сочинении Ежи Брауна об уходе интеллектуального слоя от исторических вопросов нации в межвоенный двадцатый юбилей, о том, что искусство стало забавой элиты, не желавшей создавать национальную, социальную культуру, брать на себя ответственность за собственные дела нации и государства, спасаясь в «эстетизме, таланте и свободе». Отсюда постулаты о создании «нового мира культуры» или «культуры завтрашнего дня», которые представлены в нем как в межвоенные годы, так и с удвоенной силой во время оккупации.
Оригинальное название: Victory Without a Fight
Правый глаз: 10 принципов Милея (и культура)
Правый глаз: Музей Верхней Пруссии в Мораге. 31)