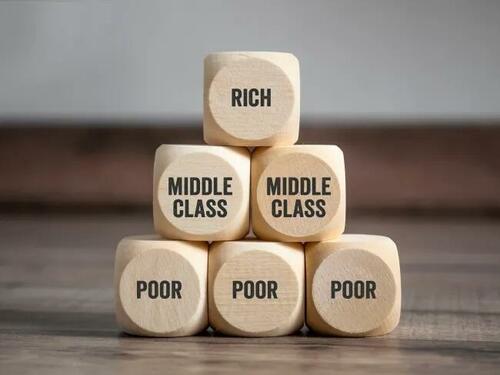__
Магдалена М. Овен: У либерализма нет хорошей черты, хотя рациональное мышление... должно иметь ее. Можно обменяться либеральными ценностями, правами человека, приверженностью к либеральной демократии как системе правительств, которая, хотя и находится в кризисе, все еще остается наиболее значимой из известных нам. А пока... энтузиазм остывает, споры растут, мы устали. Уильям Батлер Йейтс (William Butler Yeats) писал: «Лучшие из них ни во что не верят, а худшие из всех до тех пор, пока не вскипят от неиспользованной страсти».Лучшие ловят все условности, в то время как худшие полны страстной интенсивности.). Эти слова Йейтс пишет в конкретный момент, сразу после Великой войны, после трагедии, в которой погибли тысячи людей, а вместе с ними упали старые мифы о человечестве, жизненных установках, понимании ценностей. Он пишет о мировом видении «после войны», создавая апокалипсический сценарий, в котором человек, кажется, теряет контроль, где мы читаем тенденции к насилию или анархии. Ужасный сценарий, в котором он задается вопросом: «Какой монстр собирается родиться в Вифлееме?» Сценарий, который возвращается снова и снова во времена великих кризисов.
Агата Белик-Робсон: Это стихотворение определенно катастрофическое, оно описывает заключительный этап западного человечества, после которого может произойти только разрушение. В апокалиптической традиции конец наступает, когда мир достигает самого низкого возможного уровня и падает до самого дна: тогда мы либо спасены, либо осуждены, но оба связаны с абсолютным концом этого эксперимента, которым является наше человеческое существование в этом мире. Следовательно, этот зверь ползет к Вифлеем родиться и инициировать эпоху упадка, в которой произойдёт полный распад, энтропийная эрозия всех форм и структур: пожрать весь мир и привести его в хаос, над которым никто и ничто не будет иметь контроля... Когда я читаю это стихотворение, я не вижу там никакой надежды на спасение, и поскольку в последнее время я нахожусь в катастрофическом настроении, у меня часто был этот шум с Йейтсом. Потому что это стихотворение снова актуально, хотя лучше сказать: все еще актуально. Этот кризис, который Йейтс диагностировал в конце Первой мировой войны, все еще с нами. Многие размышляли о самом звере, о том, что он имеет прямую политическую отсылку, и это о тогдашнем коммунизме, советском коммунизме, которого Йейтс лично боялся. Подобные чувства испытывали и Ортега-и-Гассет, и Виткати в Польше. Это были люди, которые думали, что коммунизм как новый тип авторитаризма, исходящий с Востока, навсегда поглотит Запад со всеми его либеральными ценностями.Но сегодняАвторитарные угрозы появляются под новыми знаками и расцветают в самом сердце Запада. Линия, когда-то точно обозначенная Редьярдом Киплингом - Восток есть Восток, а Запад есть Запад — она уже давно сломалась, как и все другие выразительные пограничные линии, которые сегодня размываются и релятивизируются. Это размытие форм и определений всегда было характерно для декадентской эпохи — нашей.
Сразу же мне открывается мысль о другом стихотворении: «Семь — мой зверь» Дымка, об этих зверях одиночества, печали, гнева, отчаяния, похоти, гнева, ревности, каждое из которых меняет в каждом случае понятие пустотности. Пустота, наполненная отчаянием чем-то. Это как следующие этапы, которые мы проходим, часто, к сожалению, попадая в власть. Но я вернусь к Великой войне на мгновение, до тех пор, пока они не начнут размышлять о защите прав человека, о каком-то определении правил войны, о невыразимом моменте деградации человечества (как в Ремарке). И, с одной стороны, у нас есть этот человек, а с другой — наступает авторитаризм. Есть Гитлер, Муссолини, Франко, Сталин... Этот жестокий авторитаризм, не имевший ни свободы, ни разума, все же овладел частью Европы и снова толкнул ее в пропасть. И они не позволили бы ей восстановиться.
Это противоречие позднезападной культуры, которое отмечал и Йейтс. С одной стороны – в эстетике, литературе, философии, во всем гуманистическом отражении позднего Запада.— это высота модернизма, который фокусируется на личности. Как и позже, большевиков будут презирать, даже «культ личности». Индивидуум с его неотъемлемыми правами поднимается, таким образом, на высший пьедестал, и здесь, конечно, торжествует либерализм — с другой стороны, сразу же возникает авторитарная альтернатива, которая заключается в подрыве прав личности и на противоположном видении коллектива, этой могущественной «руки с миллионными пальцами», к которой, как поэтично выразился Мажаковский, «единица ничто, индивид ноль». С этого момента начинается столкновение двух великих современных парадигм, в котором мы участвуем и по сей день: либеральная вера в силу личности сталкивается с авторитарной верой в силу коллектива. На этом этапе Запада либеральный вариант начинает явно проигрывать, о чем нас предупреждали катастрофисты, говоря о наступлении эпохи нивелизма — уравнений индивидуальных различий во имя коллективного единства.
И это таяние в массе заметно, впитываемо, в каком-то послевоенном онемении для некоторых может быть даже легким или привлекательным. В то же время, исходя из того же времени, после Второй войны, мы укрепляем права человека, укрепляем ценности, которые являются источником либерализма. Послевоенная Западная Европа, однако, является мощным ответом на наследие военного авторитаризма, в то же время пытаясь защитить себя от подъема других. Ценности либеральной демократии лежат в основе восстановления европейского сообщества. Ведь именно эти ценности являются ценностями отцов-основателей сегодняшнего Европейского Союза, когда они прямо говорят о свободе, равенстве, толерантности, дальнейшем развитии этих принципов в сторону солидарности, субсидиарности, ответственности. И все же... В одном из своих интервью я прочитал замечательное заявление о том, что это «демократия и либеральные идеи, мир просвещения, респектабельный человек, имеющий достоверные судейские процедуры, которые казались лучшими из миров, через которые человечество прошло на протяжении всей своей долгой истории, был нацелен как источник всего зла». И его следует повторить: Это потрясающе! Да, даже страшно. Вопрос в том, что произошло где-то между этим великим оптимизмом веры в либералов. фактически Ценности, которые позволили нам как обществу или сообществу восстановиться после великого кризиса, и наша политическая повседневная жизнь? Почему конфликт?
Это тенденция к большому разочарованию, которая нарастает уже некоторое время, также свидетельствующая о упадке нашей эпохи: в конечные периоды то, что раньше было силой и движущей силой развития цивилизации, патологическое и становится источником великой болезни. Такой силой, сегодня ослабленной и патологической, была способность Запада к самокритике: совершенно уникальное свойство культуры просвещения, заключающееся в том, чтобы учиться на собственных ошибках и делать из этого положительные выводы. Сегодня эту самокритику слишком легко отрицать: простое, недиалектическое неприятие всего, что кажется несовершенным, а значит, только осуждаемым, не поддающимся исправлению. В своих философских работах я уже давно имел дело с этим явлением, в котором критика, некогда главная движущая сила Запада, вырождается для чистого негатива. Многое изменилось со времен Майкла Оукшота, который высоко оценил отношение «лояльной критики» как величайшую добродетель современного либерализма. Сегодня редко бывает лояльная критика из-за того, что подвергается критике, то есть того, что хочет сохранить и сохранить учреждение, предлагая определенную линию ремонта. Сегодня критика принимает форму бесспорного и бескомпромиссного суждения, выражающего крайне нелояльное и абсолютно негативное отношение ко всей западной формации. Это можно даже назвать широко распространенной ойкофобией или ненавистью к нашему собственному миру, который выглядит как непоправимое место, ужасное, перенасыщенное насилием, лицемерием и основополагающей ложью. Великая ложь либеральной демократии охватывает только западный империализм, колониальную эксплуатацию более слабых народов, а также, что совершенно непростительно в свете экологического дискурса, эксплуатацию природы. Внезапно, как сказал в конце 1960-х годов Лешек Колаковский, уже ощущая эту тенденцию, на скамью подсудимых была поставлена цивилизация. Он уже точно знал, что происходит, что происходит с главами шестидесяти восьмидесятых радикалов, отвергавших реформирование западных институтов ради их революционного отрицания. Он предсказал сильную антицивилизационную фразу, которая завершается сегодня, спустя пятьдесят лет: Запад потерял свою защиту в своем гуманистическом отражении, которое стало однозначно нелояльным и обвинительным. Либерализм и просвещение были признаны большой ложью западному человечеству, лицемерно скрывая чудовищное эксплуататорское насилие над слабым этносом и природой. Сегодня повсюду процветают антицивилизационные тенденции в так называемых новых гуманитарных науках, в которых хвалят возвращение к природе и к первым общинам, которые якобы жили в гармонии с ней (что также переводится в поклонение Глобальному Югу как предполагаемая альтернатива западному образу жизни: очень опасная мечта). Я полностью оспариваю эту идеализацию, весь этот миф о естественности и подлинности первичных культур, в которых позднее доминировал западный инструментальный смысл. Куда бы вы ни посмотрели, самокритика выродилась в простое отрицание.
Либерализм также, конечно, выходит из этого процесса, обвиняемого и осуждаемого как великая ложь, которая не выполнила свои освободительные обещания. Ведь вся идея индивидуальных прав действительно – согласно этому антизападному нарративу – распространялась только на узкую, избранную, элитную группу, в основном мертвых белых мужчин, а остальные исключенные не могли ими воспользоваться. Ложь, лицемерие и ложь: только для осуждения, без возможности исправления. Следовательно, нам нужна большая перезагрузка, еще одна декадентская особенность: ожидание варваров, которые предоставят нам эту перезагрузку. Это напоминает мне недавнюю про-палестинскую (или, возможно, про-Хамас) демонстрацию в Гамбургском университете, где левая квир-молодежь протестовала вместе с мусульманской общиной: "калифат - это решение". Из интересов группы квирВ этом нет рационального смысла. Однако оно имеет глубокий экзистенциальный смысл как выражение упадочного желания, чтобы наш коррумпированный мир исчез раз и навсегда и началось что-то совершенно новое — например, это «дикое чудовище», которое будет исламским халифатом в Европе (это великое желание было описано Мишелем Хуллебеком в книге «Вашингтон пост»). Представления).
Дело в том, что ожидание варваров, более или менее воображаемых врагов, превращается в политическое топливо. Пока же, хотя мы их долго ищем, они не обязательно приходят, и если они начинают стучаться в нашу дверь, то случается, что у них совсем другое лицо, чем мы боялись представить. Некоторым людям нравится этот либеральный мир. Радикального либерализма не существует, — сказал Колаковский, — государство на его основе будет утопией. Но мы не говорим о таком радикализме. С другой стороны, у нас есть эта перезагрузка... И когда я слушаю молодых людей, моих студентов, они часто смотрят на либерализм неблагоприятно, и в то же время используют либеральные категории и ценности для описания своих ценностей и стремлений, только они называют это прогрессизмом. Либерализму в Польше дали страшный рот — сначала он ограничился экономическими вопросами и перенес на него вину системных преобразований. Это одна проблема. Второе — это неработающее просветление, застрявшее в романтике и эмоциях, когда западные страны вступили в век разума. Третья вещь, еще более польская, заключается в том, что наш либерализм, известный по сочинениям Сиелевского или текстам Киселевского, оставался каким-то провинциальным, избранным, что мы все еще делаем это в качестве урока, будучи вынужденным защищать его от соблазнов авторитаристов и низкоуровневых.
Мы говорили о кризисе либерализма в глобальной сфере, который есть по всему Западу. Это молодое поколение, и я думаю о моих английских и американских студентах, это очень антилиберально, потому что это на самом деле антизападно. Она перевешивает чувство усталости с западной парадигмой и стремление пересечь ее к чему-то совершенно иному, новому, даже совсем "варварскому". Они также называют это прогрессивизмом или идеями левых культур, которые в значительной степени перезагружаются. Цели и стратегии либерализма и культурных левых весьма различны, хотя обе формации прогрессивны. Когда либеральная модель основана на переговорах между различными социальными группами и ищет компромисс как лучшую форму социальной жизни, новая модель левых отвергает компромисс как неудовлетворительный и прогнивший. Поэтому старая модель либеральной эмансипации, основанная на переговорах и компромиссах, перестала быть привлекательной для молодежи: потому что она слишком медленная, потому что недостаточно, потому что...
Потому что им нужно быстро всем сказать: "Проверяю!" Дело в том, что ни эволюция, ни демократия не являются процессами или экспресс-системами. Это просто не в их природе.
Правильно! И они на самом деле уже воспитаны в социальных сетях и так называемом принципе прямого удовлетворения, поэтому они хотели бы иметь "все, везде, сразу" (чтобы я процитировал название фильма "Оскар"). Второй вопрос — польская специфика, очень локальная, связанная с периодом трансформации, но и с проблемой отсутствия либеральной традиции. В польской культуре это тоже своего рода дезинформация – и я думаю о моих английских и американских студентах – которая является очень сильно антилиберальной злополучной ассоциацией либерализма с неолиберализмом, то есть направлением, очень поздним и ограниченным принципами экономической свободы, связанными с именем Лешека Бальцеровича. Почти весь антилиберализм польской прогрессивной молодежи заключается в восприятии трансформационной эпохи как жестокой и не имеющей значения для социальной справедливости.
У меня серьезная проблема с этой критикой, потому что я не думаю, что она зашла достаточно далеко. Очень часто это связано с совершенно ошибочной идеализацией периода ПРЛ, когда все якобы имели работу, жилье, а вся выглядела как земля молока и меда. И не совсем понятно, почему горстка этих жутких старожилов-штиропанистов попыталась разрушить эту замечательную систему и привести вместо этого хищный капитализм. Я, конечно, не согласен с этим видением. Если не учитывать то, что происходило здесь до 1989 года, то не понять механизмов самой трансформации. Но такова печальная польская специфика, которая дополнительно накладывает на дурную полосу либерализма в мире. Сами молодые люди в настоящий момент абсолютно глобализованы, благодаря постоянному контакту с интернетом и социальными сетями, и у них есть свое жуткое «все, везде, сразу». Из-за этого она не расположена в каком-то смысле - она мыслит не на пути народа Польши, страны Восточной Европы, а скорее геополитически расположена, но очень легко перенимает взгляды прогрессивной молодежи из Нью-Йорка или Лондона. Это как место, и местная история не имеет значения.
Между тем мы сталкиваемся с другими условиями, культурами, идентичностями. Нет простого соотношения один к одному. Потому что даже если проблемы могут показаться похожими, они не могут быть решены без контекста, и это невозможно сделать «за ура!».
Кроме того, существует большое давление, создаваемое культурными левыми, чтобы всегда быть на правой стороне: против преступников и на стороне жертвы. Это безумно упрощенное видение, на которое ни один расовый либерал никогда не согласится, зная, что эти разделения никогда не проходят так тривиально, что индивид всегда находится между, всегда в так называемом пересечении, то есть на пересечении разного рода сил и групп, которые не допускают простого дуализма палачей и жертв. Отсюда ужасный этический хаос, который является результатом постоянно меняющейся, изменчивой позиции обвинителей и обвиняемых. Возьмем, к примеру, такой пример дезориентирующего колебания: в один момент феминистки защищаются как жертвы патриархальной традиции, а в другой уже нападают как страшные терфки, отстаивающие свое привилегированное положение цискобита по отношению к транс-людям. Это совершенно дисфункциональная перспектива.
Такое давление должно быть изнурительным, фактически горящим. Необходимость постоянно подтверждать антисистемность в конечном счете... порабощает, подчиняется. Подобного постоянного подтверждения требует и другой мучительный крайний активистский менталитет (не упраздняющий оппозицию, но и препятствующий рациональному разговору), а также весь популизм. Последние несколько лет также являются временем, когда в ответ на кризисы, о которых мы говорим, на полках книжных магазинов появился целый массив книг о кризисе либеральной демократии. Стивен Левицкий и Даниэль Зиблатт, Фарид Закария, Адам Гопник, Джон Грей, Майкл Уолцер или, наконец, Яша Мунк, все они видят проблему. Вопрос в том, как его решить. Меня лично больше всего убеждает Мунк, когда он говорит о необходимости обновления гражданской веры, о доверии к политике как к судебному разбирательству. Поэтому я возвращаюсь к тому, что принципиально важно для либерализма, то есть к ценностям, к этике. Я думаю: это этическое убеждение, сила и место которого должны быть как можно шире поняты общественной сферой. Ибо здесь место для того, что Мирослав Дзельский однажды назвал «разумно охраняющей свободой», что в основном является долгом для либералов. И это то, чему мы должны научиться снова, если мы не хотим впасть в догматизм, который является источником насилия. Возможно, это начало выхода из кризиса, о котором мы говорим.
Да, вопрос доверия здесь абсолютно принципиальный. Либеральная демократия не может функционировать без высокого уровня социального доверия, которое на данный момент просто резко упало, практически до нуля. И это потому, что способ общения в социальных сетях ужасно жесток и не способствует чувству социального доверия или даже хорошему общению. Другие становятся адом, как Жан-Поль Сартр однажды описал довольно профессионально. Как известно, Томас Гоббс в своей концепции социализации человека использовал миф о состоянии природы, из которого мы вышли, признавая право других на существование. Я чувствую, что этот миф о состоянии природы на наших глазах перестает быть мифом: он становится пугающей, обыденной социальной реальностью.
Мы меньше доверяем друг другу, мы становимся подозрительными, мы идем к решениям, но также и к радикальной идеологии в наших предположениях, шаблонах, претензиях и разделениях. Второй становится все более чужим.
И мотив Гоббса возвращается: «Человек-волк». И это состояние природы. В ней может быть максимальная свобода, но это свобода, выкованная абсолютным страхом и недоверием к другому человеку, который всегда ставится в положение потенциального врага, потенциального мучителя, потенциальной угрозы. Либеральное понимание свободы всегда было ограниченным пониманием из-за симметричных сил других. Сегодня она исчезает ради дикой свободы — свободы меня и моего пузыря иметь все, за счет свободы других и их групп. У меня есть ощущение, что сегодняшняя свобода не так сильно уменьшилась, как ожесточилась. Отсюда популярность авторитарных популизмов, которые не намерены отнимать свободу у всех в равной степени: они всегда ставят на одну социальную группу, которую хотят отдать все за счет других, выдают за чужих, предателей, врагов и недочеловеков. Что вы имеете в виду под состоянием природы?
Таким образом, участники этого нового режима псевдосоциальной жизни, виртуальной онлайн-жизни, никоим образом не отказались от своей свободы. Проблема в том, что они больше не понимают эту свободу либеральным способом. Скорее, это злая свобода, как безграничная свобода, которая в то же время выкована неизбежным страхом и недоверием к другим. Единственная «общность» — быть среди людей абсолютно такими же, как мы, или обитателями одного и того же пузыря. Напротив, он не допускает никаких жестов доверия к другим.
Пузырьки – тюрьмы нашего... Таким образом, мы вступаем непосредственно во всю деконструкцию наших общин, в проблемы наших стран, в дрейф к авторитаризму. К нашему несчастью, Карл Шмитт приходит на землю со своими категориями врагов и друзей. И это также тот момент, когда исчезает вторая, когда мы уже не видим — настолько чистые в Левинасовском — Лица Другого.
Потому что мы не видим ее онлайн.
Это правда. Что еще хуже, мы часто формируем отношения в соответствии с моделью, которую мы хотим создать в социальных сетях. И здесь, между пузырьками, сферы свободы не очень хорошо справляются. Для моих учеников я всегда перевожу их как три круга — то, что больше всего принадлежит мне (и никто не может жить на свободе мысли или совести), что происходит со свободой другого (например, свобода слова или вероисповедания) и, наконец, этот самый широкий круг, вовлекающий или лучше сказать, касающийся больших групп людей. Может быть Я слишком верю в Зетку, но чем больше их разнообразие, тем больше они открывают друг другу, особенно когда не могут создать явные лагеря или пузыри. Это больше свободы и меньше театра. Они сталкиваются и в то же время находят пространство друг для друга, момент, когда сотрудничество возможно, и не только потому, что оно необходимо.
Это ситуация нормальной общественной жизни, в которой, как вы правильно сказали, действует Левинасское правило лица Другого, конкретного человека, который вступает с нами в живые отношения и в хорошем смысле ограничивает нашу свободу. Однако это совершенно естественный предел, потому что, когда мы видим этого человека в живых, прямых отношениях, большинство из нас не захочет причинить ей боль. Подобные ограничения исчезают в этой странно необезличенной онлайн-сфере, где запрет Левинасовского перестает действовать и все мы становимся социопатами: тогда приматы начинают рассказывать всевозможным интернет-малышам-тиранам, которые ничем не останавливаются в своих насильственных атаках. Сфера, свободная от такого насилия, немногочисленна, и университет все еще производит такого рода пространство, хотя я думаю, что его становится все меньше и меньше. Эти сферы сжимаются под давлением регламации, изгнания, политики идентичности, которые в основном полностью препятствуют общению между группами идентичности в их догме. Я наблюдаю это уже несколько лет с таким растущим, довольно катастрофическим ощущением, что даже мы, академики, уже выходим из сфер хорошей социализации. Такие переживания существуют, но они становятся все более редкими, все более уникальными.
Я ищу эту сферу, где мы можем понять себя, где такая встреча двух свобод имеет шанс произойти; эти открытые окна в монадах, моменты пересечения порогов наших собственных пузырей. Может быть, даже в моменты, когда мы не рвемся бежать на такие встречи, и все же мы функционируем в каком-то рабочем, социальном, государственном устройстве, в местах, где полная атомизация возможна и осуществима, но в навязывающем и бесспорно вредном виде. Может быть, именно поэтому, когда я думаю о либерализме, также и сегодня, он находится рядом с Локком или Роуслом (хотя абстрактное — это комбинация), которую я получаю от Сзельски. В своем эссе «Кто такие либералы» он пишет, что «это должно быть бременем ответственности для общества каждый день, только тогда оно сможет разумно охранять свободу». Это своего рода ключ...
Да, только то, что разумная охрана свободы необходимости предполагает участие разума, и у нас с этим сегодня серьезная проблема. О примате эмоциональности над рациональностью в современной общественной сфере написано много книг.
Выходит, что я из стекла и глаза, потому что «чувство и вера» как-то испарились...
Эти прекрасные чувства и вера больше не были красивыми. Вообще-то, все эти романтические вложения в страсть и эмоции начинают показывать довольно страшное лицо. Разумная охрана свободы признает главенство разума и определенные правила игры, которые мы считаем разумными. Что ограничивает свободу в либерализме, так это признание рациональных правил игры, которые, конечно, навсегда связывают либерализм с просвещением. Я не могу представить, как он мог бы выжить без дальнейшего просветления, даже если оно критическое, потому что сам принцип самокритики создал. Я хочу еще раз вернуться к этой концепции Оукшотта — это всегда должна быть лояльная критика. Тот, в котором Западное Просвещение предостерегается от всех своих ошибок и извращений, но делается во имя его исправления, чтобы, как сказал Теодор Адорно, «защитить просветление от самого себя». Этот урок Франкфуртской школы мне очень близок, между прочим, потому что сегодня он ошибочно рассматривается как матрица всей критической теории, из которой вытекают все эти антицивилизационные тенденции в сегодняшней антизападной рефлексии, о которой я уже упоминал. Именно Адорно первым предупредил нас о критике простого отрицания, которое уничтожает все и не оставляет нам никакого представления о будущем — помимо «ожидания варваров».
Но эта идея на будущее должна была бы начаться с Канта. Потому что, если мы хотим спасти либерализм, мы должны дойти до его максимы. Сапер Од!,Это смелость использовать свой собственный разум. Потому что наше время истекает, и не будет лучшего времени, чтобы осмелиться быть мудрым, но и использовать нашу мудрость, знания, опыт, проблемы и решения. Это «Я стою здесь, иначе я не могу».
Да, именно, что означает определенное присоединение к просветлению и рациональности. И, конечно же, признание того, насколько основательно для нас эссе Канта «Что такое Просвещение». Это конец 18-го века, и Кант приходит к выводу, что диагноз все еще действителен сегодня. В ней говорится, что мы живем еще не в просвещенный век, а в век непрерывного просветления, или, вернее, просветления. Просвещение — это еще не факт, а вызов, возможно, даже более трудный, чем в момент его зари.Сегодня нам очень ясно, что главным препятствием в этом процессе является иррациональный эмотивизм бушующей коллективной неосознанности, полностью противоположный идеалам сознательного и рационального «эго» конкретного индивида. Мы погружены в сферу развёрнутого «ид», развёрнутого психоза, где понятие свободы также утратило свою связь с рациональностью, то есть с определёнными правилами, ограничивающими нас. Это свобода дикая, но она также психотическая, то есть та, которая не признает никаких границ, и, конечно, не является границей в виде другой.
В контексте проблемы просвещения, с которой сталкиваются сегодня еще не полные либералы, важно восстановить образ мышления о политике и общественной сфере как о месте для постановки и решения проблем. Это и есть мудрый страж свободы. И здесь, конечно, я вспоминаю Стивена Пинкера, которого ужасно высмеивали новые, оставленные позади, за на самом деле очень простое требование, чтобы мы вернулись к просвещенному подходу к политике как к сфере постановки и решения проблем. Проблемы нужно диагностировать, а затем, зная, что они есть и что они есть, попытаться найти для них решение. Она не обязательно должна быть идеальной, но, по крайней мере, мы почувствуем, что сделали такую «карту мира» на данный момент, чтобы знать, что и где нужно решить, обдумать или отремонтировать. Между тем эта, по-видимому, очевидная идея встретила большое сопротивление. Почему? Потому что, как выясняется, даже именование какого-то явления проблемой ставит либерала на сторону черной реакции. В мире новой политики идентичности и так называемого «эмпатического утверждения», заменившего старую терпимость, просто нет проблем: есть только новые чудесные явления, которые нужно радостно приветствовать с распростертыми объятиями. Нелегальная миграция? Гендерная автоидентификация? Это не проблема, которую нужно решать, а новые красивые, которые приветствуют хлеб и соль. Хотя консервативная сторона не лучше, ее политика идентичности в равной степени некритически позитивна. Домашнее насилие в традиционных семьях Исключение ЛГБТ-людей? Опять же, никаких проблем, потому что только враги традиции, которая священна и имеет готовый ответ на все. Таким образом, утверждение нашей собственной группы в сочетании с отрицанием другой замыкает путь разумной рациональной критики нашей общей действительности, вызывая лишь возрастающую полярность и в то же время паралич в области конкретных политических действий. Неудивительно, что либералы не находят себя в этом мире и чувствуют себя уставшими. Nec Hercules contra plures.
Давайте же пожелаем разума, мира, которого нет, и времени, которого все еще не хватает. И все же мы должны найти их всех, чтобы найти выход из тупика, не продолжать в перманентном кризисе, но и в постоянной заботе о свободе; не доказывать, что «вы не верблюд». Потому что это утомительно. Либералы не устают...
Ну, я есть, и я есть.