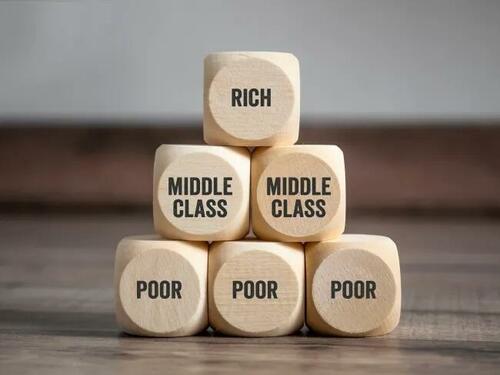Сегодня перед Америкой стоит задача такой глубокой переоценки своей роли в мире, которой не было со времен Второй мировой войны. Борьба на выборах — это не просто победа того или иного кандидата в президенты.
Происходит нечто большее. Выживет ли Америка в ее нынешнем виде как величайшая держава и приведет ли такая Америка к краху мира? Фанатичные защитники «либерального безумия» счастья других наций и государств со стороны США, которых не хватает над Вислой, убеждены, что миссия Америки состоит в том, чтобы «вечно» играть лидирующие международные роли. Однако они не видят негативных последствий внутренней трещины в американском истеблишменте, который, таким образом, не может договориться о своих истинных и последовательных интересах. Филоамериканские политики и комментаторы не хотят видеть негативных последствий американской гегемонии, чувства превосходства и высокомерной глобалистской миссии, а также притока примитивной массовой культуры и моделей поведения, вредных для национальной идентичности.
Проблема не вышла достаточной в завершении президентской кампании США, но все больше и больше наблюдателей по всему миру отмечают, что растущие разногласия в американском обществе на фоне масштабов и характера взаимодействия за рубежом могут определить характер следующего президентства. Даже если бы выборы выиграла Камала Харрис, необходимо было бы также ответить на вопрос о том, является ли пока что «международная стратегия» устойчивой в долгосрочной перспективе. В случае Дональда Трампа это кажется более очевидным, потому что, несмотря на различные несоответствия в его заявлениях, он выступает за разрыв с «миссионным интернационализмом» для исцеления изнутри самой Америки.
Уходящая Америка?
В Польше мало кто решает проблему возвращения США к изоляционизму, опасаясь оставить Европу на произвол судьбы, а еще хуже — России и Китаю. Однако в Соединенных Штатах эта тема возвращается не только в политических дебатах, но и в солидных анализах. Доказательством тому является опубликованная книга отличного исследователя американской внешней политики. Чарльз А. Купчан, озаглавленный «Изоляционизм. Как в своей истории Америка отделилась от мира». Варшава 2024. Для многих апологетов Америки это должно стать обязательным чтением, чтобы они могли охладить свои «горячие головы» в продвижении ее гегемонии.
За более чем двести лет политической истории США, о которых большинство людей в мире не знают, Соединенные Штаты дольше держались в стороне от многих международных проблем, чем были вовлечены в них. С начала государственности в 18 веке до войны 1898 года с Испанией они избегали территориальной экспансии за пределами Северной Америки. Ибо сами они были окружены враждебными силами и не могли их преодолеть. Растущая экономическая мощь в 19-м веке использовалась для внутренней консолидации, используя дипломатию и силу для расширения территориальных завоеваний (декларация ответственности за Западную Гемисферу, экспансия к Тихому океану, война с Мексикой 1846-1848 и аннексия ее земель, выкуп из России Аляски в 1867). Безопасность американского «снижения» должна была основываться на «естественных границах», географической дистанции, унитаризме и изоляции, не вовлекая (т.е. декларативном нейтралитете) во внешние дела.
Казалось бы, географические расстояния больше не играют роли в обеспечении процветания и безопасности, как это было в 19 веке. Между тем, в Соединенных Штатах некоторые правящие элиты твердо убеждены, что их «сопротивление» является функцией расстояния от Европы, Азии, Ближнего Востока или Африки. Это завидная позиция вдали от бывших и современных соперников, которая порождает естественные соблазны сдаться, отступить или выйти из союзнических обязательств.
В XIX веке были построены идеологические основы императорской власти. Это выразилось в понятии «раскрытой судьбы», мессианской приверженности продвижению идеалов американской демократии. США должны были стать «ведущим светом» свободы, а их уникальность основывалась на мифе об избегании постоянных геополитических обязательств. Процветала торговля со всеми возможными сторонами мира, используя протекционизм и обращение к континентализму (защита собственной территории и развивающейся зоны влияния).
Только на волне критики усиления интернационализма в конце 19 века и годах Эта довольно сложная стратегия Первой мировой войны называлась изоляционизмом, хотя это был довольно избирательный активизм, то есть участие только там и в такой степени, как это было выгодно США. Когда Америка еще не была державой, более важной стратегией для нее была - согласно директиве Джордж Вашингтон Прощальное обращение 1796 года — «не втягиваться» в сложности постоянных союзов и обязательств.
Возвращаясь к истории, стоит помнить, что направление к изоляционизму часто вытекало из внутренней слабости, или катаклизмов, которые включали в себя трагическую гражданскую войну (войну госсекретаря) в 19 веке, а в первые десятилетия 20-го и 30-го веков большой кризис. В то время как Америка находится на переднем крае великих держав с точки зрения экономического роста и способности мобилизовать свои ресурсы, она сохраняет свои позиции гегемонистской державы. Кто знает, начнет ли он прятаться за барьерами?
Участие США в двух мировых войнах не предрешало включения союзников с постоянными гарантиями безопасности. После нападения Гитлера на Польшу американцы не удосужились принять меры против оси. Только нападение японцев в конце 1941 года на Перл-Харбор определило смену стратегии, и победа в войне спровоцировала палубные глобальные бои до современности. Именно тогда началась эпоха «активного интернационализма». Интересно, что из-за неуместных ассоциаций с другим интернационализмом (в пролетарских и социалистических изданиях) в польской литературе, посвященной внешней политике США, человек избегает самого себя, как огня этого термина. Подобных терминов в комментариях СМИ мы тоже не услышим.
За последние 80 лет США создали глобальную сеть международных финансовых, экономических и политических институтов, создали цепочки баз и военные альянсы, которые позволили им преследовать свои стратегические интересы практически во всех местах на Земле. Стоит повторить, что эта «глубокая» приверженность делам других регионов мира на фоне всей истории США представляется скорее исключением, чем постоянной корректностью.
Вопреки всеобщей мифологии, искушение вступить в международное сообщество никогда не было результатом американской морали или альтруизма. Это безжалостные мотивы в механизмах капиталистического стремления к прибыли, в стремлении контролировать и эгоистичной эксплуатации других. Речь идет прежде всего об интересах великих экономических и военных магнатов, которые черпают огромные богатства из зависимости других стран и иногда завуалируют свои ресурсы. Государственная политика только узаконивает эти интересы, становясь со временем послушным и действенным инструментом в руках финансистов, аншлагов и спецслужб. Этому также служат различные военные экспедиции и прямое и косвенное участие в конфликтах для борьбы с конкуренцией и управления международными отношениями путем дестабилизации и ослабления противников, чаще всего назначаемых произвольным образом.
Отступление от империализма?
В последнее время надежда на сокращение американского участия в мире заключается прежде всего в рациональном сокращении обязательств из-за растущих внутренних потребностей, особенно с учетом потери конкурентоспособности, деградации материальной инфраструктуры и социальной халатности. По этим причинам многие другие президенты Рональд Рейган и Дональд Трамп Слоган «Америка прежде всего» («Первая Америка») и «MAGA» («Сделаем Америку снова великой!»). Это часто делается для того, чтобы отвлечь внимание от бедствий и катастроф за рубежом, как это было в случае внезапной эвакуации американских войск из Афганистана, выгорания примеси на Ближнем Востоке и пробуждения воспоминаний о «золотом веке», которые возвращаются как неотъемлемое прошлое, но, возможно, также прелюдия к «новой» американской стратегии.
Еще одной причиной пересмотра внешнего взаимодействия Америки может стать нарастающий конфликт между демократами (интернационалистами) и республиканцами (изоляционистами) на фоне доктрины глобального взаимодействия. На протяжении тридцати лет мы наблюдаем деградацию межпартийного согласия в США (с перерывом в «войне с терроризмом» в Афганистане и Ираке), что на протяжении многих лет узаконивает гегемонистские устремления этой сверхдержавы. Американское общество, а точнее часть его элиты, опасается, что продолжающиеся инвестиции в «мировую политику» повлияют на их безопасность и благополучие. Очевидно, что американцы устали от предпочтения интересов других стран и наций за свой счет.
Следовательно, поиск «золотого средства» между активностью и дистанцией, между интернационалистским энтузиазмом и благоразумной сдержанностью продолжается. Несмотря на богатую историю отвлечения Соединенных Штатов от проблем в других частях мира — самый запоминающийся эпизод касался отказа Сената США от участия в Лиге Наций с 1919 по 1920 год и отречения от ответственности за Европу в межвоенный период — в нынешних условиях международной системы с учетом вероятности возвращения к известной истории изоляционизма и даже выборочного обязательства нельзя оторвать от реалий hic et nunc.
Это свидетельствует, прежде всего, об огромной взаимозависимости в глобальном масштабе, как в экономической, социальной, так и в технологической сферах. Феноменом международной системы является существование, несмотря на различных скептиков, «глобального сообщества интересов», будь то в борьбе с пандемиями, экологическими и климатическими катастрофами, распространением оружия массового уничтожения или киберпреступностью. Существование неуправляемых политических режимов или дисфункциональных государств, которые находятся на грани падения или даже падения, также приводит к приверженности, а не изоляции.
Несмотря на различные двойственности, для многих очевидно, что Соединенные Штаты обязаны большим богатством своему интернационализму, который часто является лишь прикрытием для «республиканского империализма». Таким образом, невозможно не увидеть прибыли, которые Америка получает от войн, особенно на Ближнем Востоке и Украине, без кровопролития своих собственных солдат. Прекращение конкуренции в глобальном и региональном масштабе было краеугольным камнем глобальной американской стратегии с послевоенной эпохи. После окончания «холодной войны» ничего не изменилось. В настоящее время содержание под стражей обогащается различными средствами, выходящими далеко за рамки военного арсенала. Таким образом, поддержка локальных конфликтов идет рука об руку с расширенной политикой санкций против «номинированных» врагов, многоформатной диверсией и диффузией, резким разрывом экономических и дипломатических связей.
Европа проиграла
Европа стала главной жертвой стратегии США по сдерживанию России и Китая. Европейский союз утратил право принимать решения по поводу «Восточного партнерства». Его важнейшие члены, такие как Германия и Франция (не говоря уже о более мелких и слабых государствах), стали вассалами Вашингтона, а вытеснение России с европейского энергетического рынка ценой умножения их издержек является свидетельством необычайного цинизма американской элиты против собственных союзников.
Если бы в США произошел внутренний срыв, будь то в форме экономической катастрофы или социального восстания, изоляционистский ответ, безусловно, не был бы единственным решением. Несколько десятилетий назад один из старейшин радикальной американской политической мысли Ноам Хомский Он предупредил, что в случае угрозы потери своего положения и состояния имперского владения американцы вступят в полную конфронтацию с «всем миром», что приведет к глобальному разрушению.Ноам Хомский, "Гегемония или выживание. Американское стремление к глобальному доминированию. Варшава, 2005). Конечно, такого рода пессимистические домыслы и "если" можно отрицать, но люди, думающие о такой возможности переломить ситуацию, не замедляются от аналитического диагноза и формулировки прогнозных предупреждений.
Не только стратегическая непоследовательность глобального взаимодействия стала отличительной чертой современной Америки, но и растущие разногласия и противоречия делают ее непредсказуемой державой. Во многом благодаря политическим лидерам, которые вместо объединения эффективно разделяют и конфликтуют американское общество. Парадокс также заключается в том, что это самое большое иммиграционное государство, открытое для посетителей на протяжении веков, которое стало местом усиления иммиграционного контроля, герметизации границ, исключений и расстояний по отношению к незнакомцам. Недоверие превращается в ксенофобию, а стигматизация оппонентов превращается в идеологические крестовые походы и криминальные экспедиции или войны через других.
Конец глобальной державы
Соединенные Штаты, похоже, исчерпали свои возможности для достижения гегемонистских целей в глобальной системе. В течение нескольких десятилетий усилилась мощь азиатского гегемона, или Китая. При этом стратегическая переориентация многих стран Азии и Тихого океана будет продолжаться, поскольку США не смогут выполнить свои обязательства, особенно в отношении гарантий безопасности. Уже на примере ближневосточного конфликта видно, что США не полностью контролируют ситуацию. Даже самый важный израильский союзник явно выходит из-под контроля, а традиционный арабский партнер – сауды – ищет другие стратегические варианты, направляясь в сторону Китая. Имея в виду афганскую травму, американцы с меньшей вероятностью подвергнут своих солдат риску увечий и смерти, а недавние конфликты с участием США, например, в Ираке, Ливии и Сирии, оставили позади нестабильность и страдания миллионов людей.
Лозунг изоляционизма сопровождается разочарованием по поводу целей Америки в глобализованном мире, с непропорционально высокими усилиями и жертвами. Неудача привела к усилиям по распространению демократии в областях, совершенно неподготовленных или отличающихся с точки зрения цивилизации и культуры. Американские элиты, участвовавшие в войне на Украине, сейчас испытывают специфическое «пробуждение», что они имеют дело с государством, которое постоянно требует неограниченной помощи и поддержки, но не проявляет себя инициативой примирения и компромиссной воли, основанной на коррумпированных структурах, олигархизме и опасном национализме.
Дональд Трамп представляет собой определенный тип этих непопулярных «открытий», и хотя он, вероятно, не был и не будет последовательным в своих действиях, он уже достиг определенной цели. Угрозы снижения американской приверженности обороне Европы и более широкого Запада на наших глазах приводят к желаемым для Америки последствиям: большей готовности к подчинению союзников, глупости элит, увеличению инвестиций в оборону среди вассализированных государств, повышению их воинственности и мобилизации ресурсов.
И республиканцы, и демократы все чаще приходят к выводу, что системная универсализация планеты недостижима в обозримой перспективе. Так что пора спуститься с облаков на землю и позаботиться об оздоровлении собственного двора, где есть много вещей для ремонта. Оказалось, что для многих обществ в мире по-прежнему существуют привлекательные или, по крайней мере, достаточно безопасные различные варианты авторитаризма. Многие страны, несмотря на американский крестовый поход, продолжают рассматривать демократию как своего рода «политическое украшение», а не «компас», который будет способствовать «вестернизации» или «подобию» Америке. Регресс в распространении либеральных ценностей и западных системных моделей требует размышлений о последствиях безудержных амбиций империалистов-интернационалистов.
Время Трампа
Поэтому в глазах многих американских зрителей Дональд Трамп, хотя и является самым старым кандидатом в президенты США в истории, сохраняет надежду на пересмотр гегемонистского экспансионизма посредством идеологических крестовых походов. «Великая Америка» может снова стать примером для всех, но не силой и огромными затратами, а притяжением и притяжением.
Похоже, эксцентричный кандидат в президенты от Республиканской партии убедил больше граждан США по сравнению с демократическим и менее красочным контр-кандидатом в соответствии с идеей «отцов-основателей», что любое чрезмерное участие во внешних делах происходит за счет свободы и внутреннего процветания. Власть для внешнего использования, будь то в виде огромной армии или бюрократии, ответственной за межвластную борьбу, всегда негативно сказывается на уровне налогообложения граждан, повышении стоимости жизни, увеличении федеральной власти за счет государств, ограничении свободы, даже посредством слежки или повсеместной профилактики.
Действительно, повторение успеха Трампа в 2016 году – если совершенно непредсказуемые события не помешают – может быть связано с постоянным напоминанием о прямых последствиях глобальной приверженности Америки своим гражданам. Конечно, предстоящие перспективы не имеют ничего общего с разумным сокращением приверженности США глобальным проблемам. Радикальный поворот в сторону изоляционизма может быть как разрушительным, так и опасным. Поэтому поиск баланса между намерениями и необходимостью станет одной из самых сложных задач нового президента Америки.
Профессор Станислав Билен
Подумайте о Польше No 45-46 (3-10.11.204)