«Когда палец Бога касается земли, горы растут на равнинах и дымятся, лава внутри земли бурлит. А земля – мать в боли, в тряске рождает людей, людей величия. Где их имя? В великую эпоху должно быть величие. Земля была тронута Божьим пальцем, лава брызнула огнем в течение года, человеческие сердца горели, люди горели, седла горели. Величие, где твое имя? "
20 января 1924 года Юзеф Пилсудский прочитал о 1863 году в комнате «Колизей» в Варшаве.
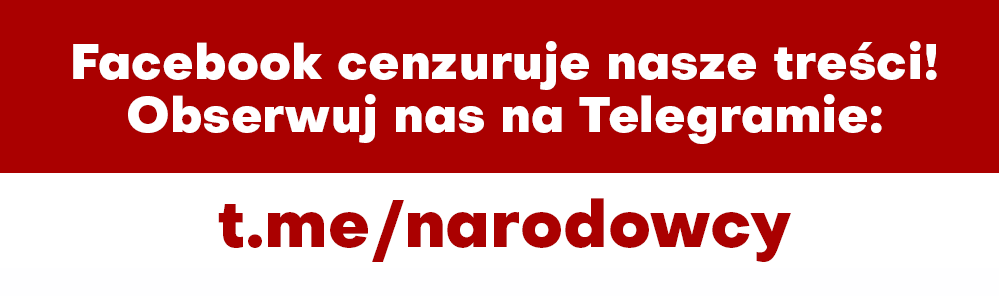
1863 год стоит на рубеже нашей истории; старая Польша умирает, рождается новая. На рубеже истории происходит эпохальное событие – восстание нашего народа, вооруженная борьба, длительная, наполненная кровью и огнем нашей земли. На пороге современной общественной жизни стоят события 1863 года. Растет огромная стена, отделяющая поколения от поколений, создающая новую жизнь, закрывающая старые, — стена, на которую огнем выливаются написанные числа 1, 8, 6, 3. Эти числа сознательно сжигались для мышления, невежественно для всех, создавая и формируя души нового, густонаселенного полюса, — новая душа рушится, другие нервы, совершенно другой способ чувств и реакций. Под влиянием несчастных случаев 1863 года рождается другая Польша с иным взглядом на жизнь и ее задачи. Последствия заходят так далеко, что можно сказать, что сегодня, даже когда рождается ребенок, он обременен 1863 годом.
Великий год и, казалось бы, будучи великим, он должен был бы заслужить то, чего заслуживает величие каждого — дело истории; и все же история нашего года осторожно опускается, он бросает взгляд на огненные фигуры, как на страшные, оставляя нам только легенду. Каждый размер создает легенду, она идет рука об руку с каждым размером, стремясь вместе с ней к могиле, на ее могиле стоит, как плачущая ива, в могиле все еще охраняющее величие. История, однако, отвергает оболочку и оболочку легенд, ищет истину жизни, сердцевину истины гребешков и показывает на глазах.
«Habent sua fata libelli», — гласит пословица, — «имеют свои странные судьбы». У них также есть свои странные судьбы, годы и цифры. Цифры 1863 года, должно быть, принадлежали несчастным числам. Они так много значили для нас, так много связывали в жизни нации, им не везло в истории и литературе, они находят только своих суррогатов — легенды и анекдоты. Поэтому, когда сегодня в свободной Польше и ее столице я буду говорить о 1863 году, легенды, которых я не хочу, я хочу сказать вам правду не своими словами, я хочу, чтобы говорили могилы! И если я смогу совершить чудо воскресения, и в этой комнате живые цветы могил хлещут, говоря с их болью, придавая запах живых цветов жизни, тогда я буду счастлив, ибо сердцем я однажды укусил истину, ища в великом году величие моего народа, ища в великом движении величие моей родины.
Пусть среди вас назовут могилы, пусть говорят на своем языке, а не на легендах. Мы все, могильщики восстания, видимо, очень хорошо знаем одну легенду о национальном согласии, о братской гармонии всех, о руках, отданных братским объятиям со слезой чувств в глазах. Легенда, прошептанная всем нам с упреком, легенда о розовом масле, которую мы часто пытались подавить, отлила как образец, для непослушных детей родины. Это правда? Каковы были отношения между сторонами в то время?
Их было три — многополицейские, белые и красные. Три великие державы, которые двигались в польском мире того времени и были сильны в великом историческом году. Первая, небольшая, но сильная работа и величие, и сила ее вождя — Марграби Велопольского. Сила характера, большой стальной человек с большой волей, имел небольшое количество помощников и друзей. Что он сделал? Используя ослабление оккупанта после проигрыша Крымской войны, играя на кадровых перестановках в окружении нового царя (Александры II - прим. ред.), он работал над смешением офисов в Польше, удалив остатки следов эпохи бывшего царя Миколая и его любимого, губернатора Варшавы Паскевича (Ивана Федоровича Паскевича - за четверть века он вел жесткую антипольскую политику - прим. ред.). Весь правительственный аппарат стал польским, а возрожденная Главная школа до сих пор является памятником его заслуг. Он относился к обществу Велопольского с презрением, требуя только послушания. Он насильно заставлял слышать, и он ничем не отличался от захватчиков, которые давали ему руки и аппарат для этого. Основная среда обитания белых, сельскохозяйственное общество, закрытое изнасилованиями, отдельных людей преследовали и издевались хуже, чем Паскевич. Красных ненавидели, как личных врагов, заключали в тюрьму, пытали, шпионили за кооперативом с царской полицией. Возможно, он использовал всю свою силу характера, чтобы ненавидеть злоупотребление одним и другим от презираемых предубеждений. Он и его семья были вознаграждены. Он был проклят нацией нации, ненавидел, возможно, больше, чем захватчиков, москали отождествляли себя с ними во всех публикациях того времени.
Когда вспыхнуло восстание, когда в лесах прогремели ружья и винтовки, повстанцы пели после известных на сегодняшний день лагерей: «Стоп, царь, стой на месте, борьба продолжалась». В этой песне, пожалуй, самым большим был спет стих «Потому что ему (автомобилю) дизайнер дал дизайн, как погасить тепло». «Марграф» — Велопольский, чей титул маркграфа был нарушен за большее презрение. Они сражались и сражались с царем и маркграфом. Где же тогда национальное единство? Ведь это важная гражданская война в самом строгом смысле этого слова.
Я принимаю другие партии. Так что у нас большое, большое количество поляков Белой партии. Во главе почтенной фигуры Замойского (h). Что такое правда? Пусть говорят могилы. Я открываю книгу последнего, наиболее переваренного, написанного дрожащей рукой старика, сходящего к его могиле. Рука, руководимая разумом, который боль переваривала, то, что он искал короткой, как можно более раздражающей истины о 1863 году. Половина — дневник, половина — история Юзефа Яновского, члена Национального правительства от вспышки до краха движения. Я открываю эту книгу в подготовленный период: речь о белых, их отношении к тем, кого вела война 1863 года, их отношении к тем, кто является содержанием и сутью вспышки 1863 года: Вся организация ЦК относилась к нему презрительно, называя его работой сопляков и дураков. Краткосрочный, не говоря уже о «треге Деи».
Пусть заговорит другая могила. Есть известный польский писатель, которого многие ценят до сих пор. Улыбка на вашем лице хороша, когда вы говорите о Клементе Юноше, этом рассказчике, этом замечательном наблюдателе жизни. Он жил в те времена, принадлежал к Белой организации и оставил свои воспоминания.
До вспышки (насколько я помню, в январе 1863 года) Белое управление приказало своим комиссарам в провинции изучить душевное состояние. А вот Клемент Джуноша, как директор дирекции, расследует свой район. Кому он там учится, где стремится познать жизнь? Свободно, в веселой почти тонне, пишет: представитель красных в городе был фармацевтом, известным дураком, на которого не стоило идти. Лава бурлит внутри земли — завтра горящая лава прольется после прикосновения к красной, но разговаривать с ними не стоит. К кому идти? Древнему израильтянину, местному торговцу, говорить с ним о красных и узнавать от него о положении вещей. «Treuga Dei» — где ты?
Давайте двигаться дальше, говорит другая могила. Оксинский (Йозеф Оксинский – ред.) на замечательной карточке своих мемуаров рассказывает о начале восстания. Сэм Рэд из тогдашней военной школы в Кунео — это была своего рода школа стрельбы до войны 1914 года. Он послан Сигизмундом Падлевским, начальником восстания, и дает ему указания. Через неделю произойдет взрыв, и Падлевский говорит: «Я посылаю вас на казнь, там белые, там нет поляков». Кому он посылает Оксинского для восстания? Тайной московской организации "Земли и Вола" эти адреса дают ему, презрительно относясь к "неполякам", белые.
Интересная и красивая сцена в этом дневнике. Оксинский прибывает в Калиски, не имея данных о тех немногих красных, которые тонут где-то в море белых голов. Как он их ищет? Насколько сильными были споры, насколько яркими они были, указывает характерный способ, которым он нашел этих красных. Оксински отправляется в гостиницу, где собирается местная, так сказать, разведка политического спора. Оксинский смотрит на собравшихся и видит среди них одного забитого камнями красноватого. Он догадывается, что это, должно быть, тот, кто представляет небольшое меньшинство и чувствует себя обиженным, так что это Рэд — и он идет без коробки. Да - это Рэд, потому что его поймали, избили и пнули морально в трактире.
Это и есть начало восстания. В Белой Подляске Рогинский молодой человек готовит взрыв, организуя города и окрестности. День для сбора, место для сбора. Рогински ждет у себя дома. В огненной буре, ночью, расцветая, прежде чем выйти на бой, спешите в церковь, чтобы примириться с Богом. Они идут на исповедь, чтобы очиститься от своих грехов. Священники отпущения грехов не дают, говоря: «Вы идете на убийство, на грабеж, на отпущение грехов нет отпущения!» Рогинский видит, как начинает колебаться важная работа, вся его работа. После минуты колебаний по энергетике он бросается в церковь, чтобы заставить отпустить священника с ордером, криком, угрозой смертных приговоров. Он требует прощения. Где ты, или ты, Трега Дей? В скинии Божией идет гражданская война!..
Давайте двигаться дальше. Вспыхнуло восстание, лава от вулкана ушла на землю, мы находимся в лагере одного из великих - Лангиевича. Поляки приходят к нему и жертвуют деньги, чтобы он мог просто распустить лагерь, чтобы оставить безумную работу в покое. И когда Лангевич отвергает эти предложения, они идут к московским властям, рассказывая им о разложении лагеря, его силе. Где ты, слезливая "трега Дей"?
Мы едем во второй лагерь. Вот старый волк, старый ветеран 30-го года, известный в истории Чачковского (Дионызи Чачковский - ред.), жесткий человек, безжалостный к подчиненным, своим постоянно хлыстом. Батем принуждает к послушанию, держит в руках армию, заставляет работать, беспощаден к себе, беспощаден ко всем. Это описание различных визитов Чачковского. К скромным белым, белым не только с точки зрения внешнего вида, приходят усадьбы, взбивая хозяев, заказывая реквизит, наказывая сопротивляющихся Национальному правительству. Бата не отпустила бы. А где ты, Трега Дей?
Давайте двигаться дальше. Восстание вспыхнуло в различных местах, пожары, горящие города, убийства раненых. В Варшаве собираются белые, они привозят с разных сторон в столицу остатки дирекции, остатки белых, не остановленные восстанием в провинции. Они разделились на группы. Одни колеблются, другие сразу идут к московским властям, прося, чтобы как можно скорее в крови подавили безумие, не взяв на себя ответственность за него, стремясь избежать груза ответственности, который тяготит страну.
Мы идем дальше к великим, к тем, кого продвинуло само движение на лоб ответственности. Центральный национальный комитет на своем первом заседании, объявив себя Национальным правительством, решил отдать власть диктатору. Несмотря на внутренние споры, несмотря на личное отвращение, был выбран один. Это был Мирославский, что мы знаем о нем? Но это гражданская война! Легенды, снотворные под Мирославским, говорят: Польша будет свободна раньше - я не помню этого термина, но, думаю, там говорят о смерти последнего священника. Его легенда предвещает гражданскую войну.
Тогда перейдем ко второму диктатору — Лангиевичу. Мы найдем то же самое в менее яркой форме. Хотя он является диктатором в Кракове против Мьерославского смутным, не очень согласующимся со средней этикой интриги, втайне от Национального правительства (10 марта 1863 предубеждения о Белых, противостоящих Мьерославскому, объявили диктатуру Лангиевича). Лангиевича убедили объявить себя диктатором Адамом Хр. Грабовски, претендующий на роль представителя Национального правительства — прим. ред., оставлен из-за страха перед этим «красным дьяволом», в письмах, уже написанных в тюрьме, после падения его диктатуры, фразах и терминах, спорящих с белыми. Он выдвигает обвинения, пользуется широко известными в те времена и страстно белыми борющимися лозунгами, словами и аргументами.
Позвольте мне, господа, рассказать о личных воспоминаниях. Я знал одного из великих повстанцев, с которым был в искренней, любящей дружбе. Он был известен как Бронислав Шварце, член Центрального комитета, арестованный до самой вспышки. Когда я пришел к нему с теориями о «треге Деи», со слезной легендой, он нетерпеливо махнул мне рукой, и рот его был наполнен словами желчи, словами презрения, словами шутки, — шутки, переваривающей сердце.
Когда я изучаю эпоху, когда я двигаюсь по этой истории, я встречаю в основном провокацию, польскую провокацию. Маргария Виелопольская вызвала восстание. Московские власти возвращались, не хотели использовать чувствительную середину марки, ставили ее на все новые и новые даты; маркграф Велопольский навязывал эту ветку московской власти. У нас почти гражданская война. Где ты, слеза «treuga Dei»? Где ты, легенда? Когда говорят могилы - ты исчезаешь, как иллюзия!
Когда я изучаю эту эпоху и сравниваю ее с другими, то могу смело сказать: люди были вулканами того времени, избивая в них то, что было в них - презрение, отвращение, ненависть, близкие к гражданской войне. И когда я сравниваю жизнь моего народа в разные эпохи, я знаю только две эпохи, похожие на эту «трегу Деи». Во-первых, когда палец Бога коснулся нашей земли и вулканы хлынули, чтобы сделать нас Геркуланумом и Помпеями навсегда, горячим пеплом вулкана, как в могиле, чтобы заполнить - там мы находим ту же ненависть, там мы находим ту же борьбу, там была гражданская война.
И вторая — это эпоха, когда среди вулканов мира наша земля вновь оказалась над потоками горячей лавы, когда эти Геркуланум и Помпеи, в могилах погребенные, из пепла живые, стали нашим веком. Легенда о национальном мире должна исчезнуть, когда коснется правды истории. В то время ее не было в Польше.
Существует вторая легенда, легенда о чувствах, слезный туман, парящий над могилами, покрывающий их черной вуалью, траур. Все покрыто слезами, слезами, живет всем. С этой легендой не стоит иметь дело. Где мы видим человека, который стреляет, плачет, где мы видим драку в слезах и печали? Реальные образы придают иной характер — симпатичные шамары, обожженные туфли, изогнутые усы, хныкающий взгляд, счастливый танец вокруг костра, какие-то сентиментальные ноты звучат во дворе — это последний мазур, где господин Кшизия танцует слезу розового цвета. Это была жизнь того времени, жизнь борьбы, жизнь беспорядков. Ты ходил на смерть свободно, ты ходил на танцы со смертью так же весело, как и на танцы с девушкой.
Есть еще легенда грустная и такая страшная...
Так мало, так глупо, так просто безумно? И этот великий век, который годами лежит в сердце Польши, или тень, или колючее кровотечение, которое переваривает жизнь нескольких поколений великой нации, так чудовищно мал, так нелеп, так глуп? Эта легенда о малочувствительных образцах 1863 года не покидает нас. Снисходительная улыбка — вот и все. Мы знаем эту легенду. Возможно, мы больше дети этой легенды, чем кто-либо другой.
Когда палец Бога касается земли, горы растут на равнинах и дымятся, лавовое тепло внутри земли бурлит. А земля – мать в боли, в тряске рождает людей, людей величия. Где их имя? В великую эпоху должно быть величие. Земля была тронута Божьим пальцем, лава брызнула огнем в течение года, человеческие сердца горели, люди горели, седла горели. Размер, где твое имя?
Я помню свою трагедию, когда я искал ее, и когда я встретил легенду, я отвергал одну за другой.
Есть легенда, что это было просто безумие. Я в ужасе — нет великого века величия, так что земля проклята Богом, а губы побелены от страха шепотом: может быть, конец? И эта страшная легенда распространилась, как чума, как эпидемия, среди поколений после захоронений восстания 1863 года. Я выглядел как одержимый человек, и я не мог принять это.
Размер, где твое имя? Самое большое имя - Маргрейв! Я хотел любить его за величие, ибо он имел гордость и величие своего народа. Я вижу замечательную сцену - зимний дворец в огромном Петербурге, большое войско сановников, ожидающих входа царя, ожидающих - стоя, смиренно и терпеливо - сидит маркграф. Когда его попросили подняться, потому что русское величество должно войти в этот момент, он ответил: «Я встану только перед своим царем». Он не был рабом, большой силой, большой гордостью. Он упал, задушенный ободом штыков с одной стороны и с другой стороны, попал под силу презрения, часто раздавленного оскорблением ненависти. Размеров нет, пришлось искать где-то в другом месте. Размер, где твое имя? Я искал везде, и они искали и ставили людей, которых они нашли, на лоб. У нас два диктатора. В этом слепом послушании Божьему пальцу искали двух человек, и двое были подняты. Один — диктатор Мирославский, другой — диктатор Лангиевич. Несомненно, больше, чем другие, без сомнения, люди не были маленькими. Оба запутались в диктаторских сетях, почти опереттных диктатурах, диктатурах в стрельбе из двух трубок, мертвая диктатура, мертворождённый кровавый фарс, нелепость, окружающая этих персонажей. Величия нет. Я искал в другом месте. Самый старый человек в движении, Агатон Гиллер, отступил в последнюю минуту. Журналист, закрученный для нужд публициста постановлением и словами шефа Падлевского. Я искал где-то еще: ба, они больше! Вот сильная фигура, из кованой стали - Ярослав Домбровский, огромная внутренняя сила, предоставленная Красным Вождем, бросается за решетку, заточается перед взрывом, сидит в цитадели, за решеткой лихорадка действия переваривает его, бросает лихорадку, сильные планы, бросает их за решетку, диктует ордера. Его руки связаны, за решеткой живой призрак, мертвое тело.
Его заместитель, Падлевский, красивая рыцарская фигура, полуаристократ, полузаговорщик и демагог. И здесь нет никакого размера. Я ищу других сильных, первоклассных мужчин той эпохи. Размер, где твое имя? Есть и другие – молодой Бобровски (Стефан Бобровски – ред.), быстро появляющийся в глазах. Мы видим, как этот молодой человек созревает за один час с серым опытом, серой работой. Они уже толкают его на лоб, он оказывает большое влияние. Он едва появляется в Варшаве, его уже вызывают на самую высокую работу, и... подонком на дуэли его убивают.
Затем он бросает историю в конце более крупного персонажа Траугутта. Где он, когда Божий палец касается польской земли? С белыми, сидящими в литовской пустыне, он колеблется, боится. Величия нет. Они насмехаются над нами, потомки. Размер, где твое имя?
Так что легенда о глупости, легенда о безумии, легенда об исторической чепухе, так кроваво выщипывающая внутренности нации, внушающая людям слабость, удушающее унижение, страшная улыбка сожаления и холодный рассудок! Размер, где твое имя? Я искала. В битвах, в истории войны я этого не находил. Пусть говорят могилы, пусть дают цветок живым, пусть размер возраста происхождения оставляет нам образец, пусть учит нас.
Когда я читал, когда я смотрел, когда я осматривал, я медленно выяснял, что движение держало так долго. Я не мог смириться с малостью великих вещей, которые она могла сделать, чтобы само безумие, сам смех могли заставить великое царское государство, имеющее тысячи солдат для своих служб, огромную технику государственной работы, тюрьмы и кнуты, целый год, 365 дней войны со слабостью и безумием. Вы должны быть сильными, чтобы не поддаться такой борьбе. Размер, где твое имя?
Я лихорадочно смотрел. Великий век великих людей не дал и не дал больше нераскаявшихся препятствий этому дню. Там, где не хватает великих в те же времена, люди ищут символ силы, символ своей ценности, в институтах, в символических уродах.
В 1863 году появился такой символ, который был крепким, но – иногда овладевавшим людьми. Это была печать национального правительства.
Я видел ее в разных музеях — лист бумаги с прекрасным письмом, а внизу — печать. Это был символ силы. Что делала печать, что делали люди, стоящие за этой печатью?
Для характеристики работы штампа и людей, которые охраняют его серьезность и значение в нации, я прежде всего упомяну некоторые воспоминания о состоянии подготовительной работы перед взрывом стоя. Один из великих, Милковский (Жеж), до вспышки, прибыл подпольно в Варшаву и был поражен силой организации. Вся конная почта, которой он управлял и которая затем заменила несуществующие права и железные дороги, находилась в руках организации. Чиновник нашего правительства идет, лошадей связывают, пусть другие ждут. «Наше правительство идет!» Труба почтальона играет и в лесу падает в тонны мазурки Домбровского. Все почтовое отделение работает, работает на свое правительство, когда официально есть еще одно, с которым должны бороться вооруженные силы. Мой старый друг, Шварка, рассказал мне о моменте своего ареста перед восстанием. У него были правительственные документы, он чувствовал, что его собираются забрать, и что он сделал с документами? Он прыгнул в первый лучший магазин, бросил его на прилавок и крикнул: «Бумаги ЦК, правительственные бумаги!» Сегодня эти бумаги будут продаваться на фондовом рынке! Затем их стали уважать и отдавать тем, кому они были положены. Как велико должно было быть общество в то время, как сильно было желание добровольно подчиниться моральному принуждению, когда они могли преодолеть силу материального порока, столь тяжелую для всех поляков.
Давайте теперь посмотрим на работу печати и ее людей во времена ее высшей власти. Это Мариан Дубиецкий, написавший ценную работу в крови, тщательно собиравший данные, как работает центр, описывает, как в Варшаве, наводненной войсками, было два правительства: одно, в стальной цепочке, царствовало официально, другое — то, которое должно подчиниться, то, которое прячется в углах, невидимое, ведущее великую борьбу, длившуюся год. Как он работает? Когда я испугался, старое заговорщическое целомудрие сдвинуло эти произведения, я вырвался со смехом — опять же просто шутки! Масса письма, регулирование мелких жизненных явлений с учетом мельчайших вопросов, кабинетов, дикастеров. Где? - в затопленной армии Варшавы, где по улицам продолжали ходить патрули, где мужчина без фонарика на улицах вечером выходить не должен, потому что должен освещать своих шпионов. В этих условиях офисы, министерства, пишущие гигантские фольги, подающие письменные секретные отчеты, осажденные кабинеты, толпы людей, тусклые хвосты, сами входящие в штаб секретных органов. Я хотел смеяться, старый заговорщик, когда читал его. Зачем им это делать, какая работа, какая шутка?
И все же смех застыл на моих губах, когда в моих исследованиях воспоминаний, над литературой мемуаров, я однажды столкнулся с последствиями этой странной, почти невероятной работы людей, стоящих вне печати центральных властей. Я возвращаюсь к воспоминаниям Юноши. Из «Белого», ища правду о «Красном» в Израиле, он превратился в комиссара Национального правительства — вероятно, в Ленчицки. Ему принадлежит марка, а точнее марочная бумага — символ его государственной власти. Его номинация на бумаге. У него есть вторая чистая бумага с печатью на ней. Он должен ввести имя и фамилию своего преемника по своему усмотрению, когда он больше не сможет продолжать свою работу. В мемуарах, полных юмора и живого меткого наблюдения, присутствуют яркие детали работы и множество мелочей, тщательно проработанных в центре. Жизнь тщательно регулируется, часто мелкими повседневными делами. Ты чувствуешь, что делаешь. Это делается видимой и осязаемой рукой правительства для всего народа страны, несмотря на то, что Национальное правительство безымянно, несмотря на то, что есть другое правительство, правительство насилия и вторжения, несмотря на то, что в стране идет война, война со всей серьезностью своих прав по отношению к людям и их жизни. Помню организацию связи и заботу формирующихся в округе вооруженных сил Польши. В каждой конюшне есть оседлая лошадь на вызове, рядом с мальчиком на вызове. Бежит предупреждающее сообщение, сигнал тревоги - российские войска откуда-то. Мальчик садится жеребенком и мчится над луками, полями к следующей назначенной станции, известие предшествует движениям вражеской лошади, достигает назначенной цели с предупреждением.
Давайте искать другие картины. В тревожные времена страна управляется группой людей, вооруженных и сражающихся. Как обычно в такие моменты, жизнь для тех, кто не носит оружие, тяжелая, как обычно, жестокость. Некоторые из них подают жалобы в правительство. Я знаю из своего дневника об одном из этих несчастных случаев. Один из командиров небольшой ветви — говорящий на более современном языке — бандит. Приказ отправляется командиру района Чачковскому. Правительство приказывает убить бандита, а Чачковский, не знающий ни одного из членов этого правительства, не знающий даже их имен, сам преследуемый врагом, совершает специальную экспедицию, чтобы найти виновных. Он получит его, и после прочтения приговора он будет немедленно казнен.
Вот еще одно описание работы Национальной правительственной полиции в Варшаве. Работа двух янков — белого и черного (говорит о Яне Карловиче, начальнике Варшавской полиции по делам национального правительства, известном под псевдонимом Янек Бялы и Ян Массона, носящем псевдоним Янек Блэк — ред.). Когда вы перемещаете эти карты, вам может показаться, что вы читаете историю за тысячу и одну ночь.
Я читаю дневник Лещицкого. Какой-то офицер, инструктор, который собрал там подразделение, как будто вокруг была комната. Курьер бежит с предупреждением — к ним направляется армия. Поэтому они прячут оружие и стоят, чтобы работать на урожае, чтобы вернуться к солдатской работе, тренироваться. Какой сумасшедший электорат воли у таких людей, сколько взаимопомощи! Сколько безумных усилий духа потребовалось, чтобы совершить маленькое дело! Что делает эта последовательность? Я цитирую Юношу из этого: русский офицер, управляющий уездом, был переведен в другое место, уехав с семьей. Он хочет обезопасить свою семью в путешествии по стране, где идет война, он хочет легально находиться в этой стране. Что он ищет? Он ищет другой правительственный пропуск, его собственного ордера недостаточно, есть другое правительство, наше польское правительство, он защитит его.
Я принимаю за свидетельство нашего врага Берга (Микола Берг - ред.), его "Записи восстания". Что мы найдем? Описание одной из сцен может служить инструкцией в настоящем времени. В Варшаву прибывает новый российский чиновник. Стоя в отеле, стуча в дверь. Распоряжение об уплате налогов. От кого? На чье имя? От имени польского правительства. А московский чиновник платит налог тайному правительству, правительству печати.
Мы двигаемся дальше. Где-то в рухнувшем Сандомирце есть этот безумный русский офицер, влюбленный в лошадь. Лошадь – это его жизнь. Вдруг лошадь украли, а лошади нет. Жизнь бедняка была отравлена, ему не хватало друга, ему не хватало жизни. Поиск, отправка патрулей. Правительство насилия оказывает ему помощь. Лошадь, если нет, то нет. Офицер отчаивается, сходит с ума. Мудрый израильтянин советует ему: «Вы не смотрите туда, вам нужно искать в правительстве!» — «Какое правительство?». Не с этим, это другое, они найдут, если вы обратитесь к ним. А офицер отворачивается евреем, платит налог, платит штамп заявления, и через три дня лошадь ему возвращается.
Нацполиция вжимается в московские офисы, отслеживает тюрьмы, курирует работу Нацправительства, секретные работы. Сколько тогда было памятного духовенства, сколько незабываемых легенд, с которыми после 1930-х годов я постоянно сталкивался в своей работе среди варшавских рабочих. Они жили жизнью цветов, с их чудесным ароматом, увлекая великое дело людей, работу огромного количества усилий, большое количество воли, чтобы сделать правительство своим собственным сильным.
Перейдем на некоторое время туда, где восстание длилось дольше всего. В 1864 году о. Брзозеком командовал подласский народ. Из всех польских округов восстание было сильнейшим. Равич (Wladyslaw Rawicz – ред.), бывший белый, возглавлял организацию правительства. Он быстро организовал работу правительства, принес в организацию все, что жило. Он умер на виселице.
Позвольте мне выбрать из этих воспоминаний, пожалуй, самые оригинальные, кажущиеся чем-то невероятным, и свидетельствующие об огромной силе предположения, которую имел сильный авторитет Национального правительства. Они касаются многочисленного участия евреев в восстании. Организация везде основывалась на схеме. В городе был христианский мэр и еврейский помощник мэра. И я помню из воспоминаний одного молодого еврея, чьи самые опасные экспедиции были переданы, который массово доставлен и который, как единственная благодать, просил какого-то наименьшего отличия от польского правительства. В своей жизни я познакомился с традицией этой работы. Во время японской войны, работая в заговоре, я заблудился в Седлеке. В качестве адреса меня порекомендовали на фабрику, которая на самом деле была простым лакокрасочным магазином, и хозяин, хороший толстяк, должен был меня приветствовать. Я пришел к нему как эмиссар такой печати, как человек без фамилии, но о котором он знал, что он больше, эмиссар какой-то власти. Поэтому он принял меня с должным почтением. После долгого разговора, когда я уладил все его дела, он с каким-то необыкновенным сочувствием упал ко мне, а перед уходом сказал мне: «Мы не можем так расстаться, позволь мне попрощаться с тобой величайшим мемориалом». И из потолка своей фабрики он вытащил две маленькие бумаги, завернутые в бумагу. На них были печати национального правительства. Я спрашиваю, откуда это взялось. Он рассказывает мне историю. "Эти бумаги прошли через ад сибирской катарги и вернулись в Польшу. Такой помощник мэра — еврей, вернувшись из каторги, в новой жизни не смог найти себе места, потому что плыл с одного берега, а на другой не приходил, в судорогах и болезнях умирающий, эту святость, сохранившуюся от каторги, дал отец этих мастеров. Теперь этот наследник традиции творчества Равича разделяет со мной эту святость, как вафель; он оставил мне одну карточку, а дал мне другую, чтобы жить потом.
Штамп часто предписывал тяжелые, невыносимые обязанности для толпы. Я знаю эти печальные законы войны, я знаю их по рассказам людей, которые прошли через эти самые трудные обязанности. В городе повстанца казнили. Правительственный приказ гласит: «Вы должны быть там, смелыми глазами смотреть в глаза осужденного, пусть он умрет среди своих».
Тишина стояла за улицами, когда грохотали барабаны. Они смотрели в глаза смерти, говорили осужденному: ты идешь на смерть, а мы с тобой.
Это чудо силы, чудо национального правительства, чудо какого-то размера. Когда я перебросил карты истории Национального правительства, я спросил себя: «Где был спор с этим замечательным «трегуга Деи»?» Красные и белые, один за другим, превратились в розовую и розовую воду и слились вместе, чтобы успокоить своих? Нет! Нет! Люди стали людьми, и с ними страсти и их сила. Они смогли победить, и в этой победе даже маленькие люди стали работать как люди, достойные своего возраста.
Размер, где твое имя?
1863 год дал неизвестное величие, величие которого мир сомневается теперь, когда он говорит о нас, величие, отрицая все, что мы говорим о себе, величие чуда труда, великую массовую силу, силу коллективного усилия воли, моральную силу, — не «treuga Dei» коллективного shua, не «treuga Dei» трусов, но «treuga Dei» людей, которые в великий час, когда коснулся Божий палец земли, превращаются в гигантов огромного морального труда.
Когда я считаю слои открытой земли
И я вижу кости, как знамена
Силы, потерянные под верхними хребтами
Они лгут и свидетельствуют о Боге.
Я вижу, что он не просто черви.
Бог и это существо, которое ползает (Словацкий, «Бениовский», Песнь V).
И еще раз, когда я задаю вопрос, размер, где твое имя? Я нахожу ответ: величие нашей нации в великую эпоху 1863 года существовало, и оно опиралось, пожалуй, на единственное в истории нашего правительства, которое, неизвестное по названию, так уважалось и так слушалось, что зависть могла возбудиться во всех странах и во всех нациях.
Когда палец Бога коснулся нашей земли снова, когда лава огня хлынула на нее снова, как наша земля гремела под миллионом пушек, как она горела от огня, как били глаза, сияющие на солнце штыков, как небо вывихивалось от ракет, как гнили за гнилью, как полки смешивались друг с другом, что с его липкой кровью может хлынуть на нашу землю, я был среди них. Я помню момент, который, как символ, снова бросает мне тени прошлого. В самом начале войны я шел по дороге, где стоит княжеская резиденция великого маркграфа. Большой замок заброшен, почти разрушен, в огромном дворе растет сорняк. Где находится зал замка – лагерь. Я был там и смотрел — тени прошлого возвращаются. Когда я на мгновение закрыл глаза, передо мной предстал великий персонаж маркграфа. Жирное тело, основанное на палке, с презренным взглядом на лице. И снова его голос был назван: «Тот же самый, но ты и твой маленький, маленький, злой, маленький герой!»
С Польшей трудно иметь дело, часто поляков бросают в беду.
И когда страх ударит тебя во сне,
И когда ты проснулся в своей постели, они упали,
И вы услышите, что ваши крыши дрожат
И они хлопают, как кость, когда она горит.
Когда холодная смерть берет тебя под руки,
Он покажет Бога и перед ним (Словацкий, «Бениовский», Песня XII).
- тогда знай: из могилы, из могил 1863 года возникает живая тень, тень величиной с эпоху, тень Национального правительства, и тогда могилы плачут страшным голосом: «Иди и делай!»














