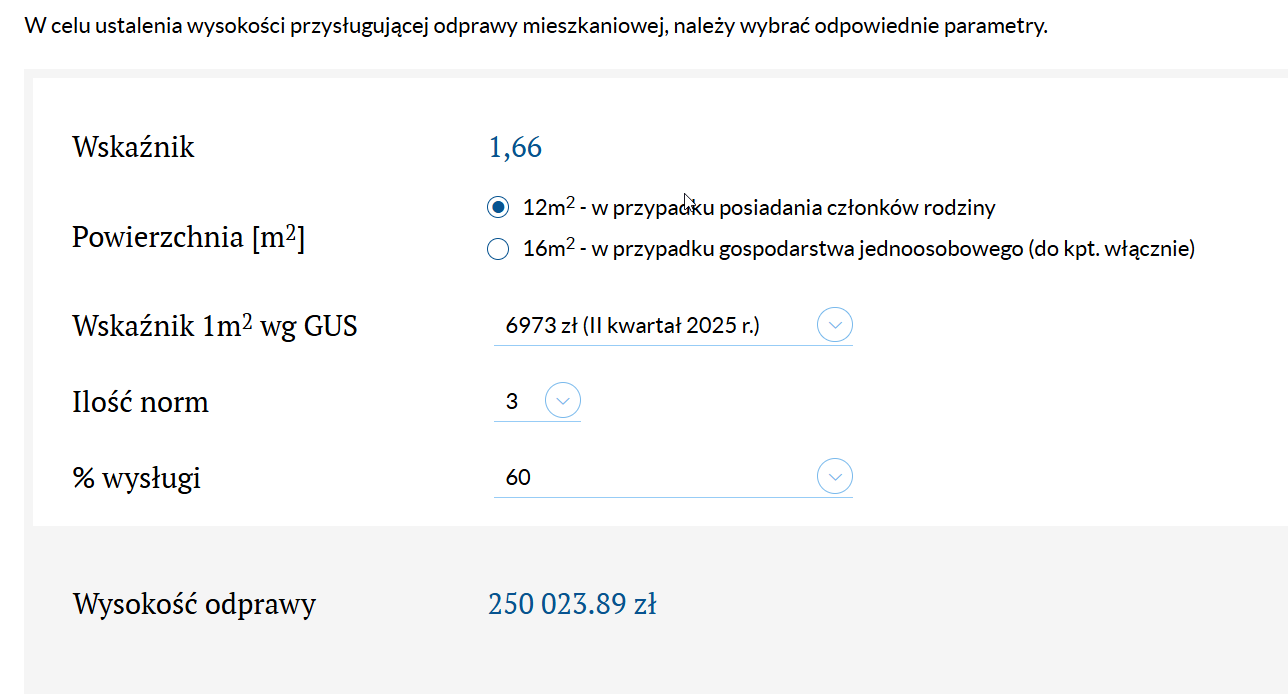Варшавское восстание, начавшееся 1 августа 1944 года, является одним из самых трагических и символических событий в истории Польши XX века. В течение многих десятилетий она функционировала в польском национальном сознании как акт героического разгула, свидетельство неустанной воли к свободе и независимости. Однако не все участники политической и идеологической жизни Второй республики и Польского подпольного государства разделяли этот энтузиазм. Национальная обстановка, как правило, проявляет явный скептицизм, а иногда даже осуждает решение о повышении.
После разгрома сентябрьской кампании 1939 года и начала оккупации Польши Германией и СССР национальная среда, как и другие политические лагеря, стала создавать конспирологические структуры. Уже в октябре того же года была создана Национальная военная организация (НОО), которая должна была стать вооружённым подразделением Национальной партии. Целью СЕЙЧАС было организовать сопротивление оккупантам, сохраняя при этом идеологическую и организационную целостность довоенного национального лагеря.
NOW развивалась в основном в Варшаве, Кракове, Львове и других крупных городских центрах. Она была структурно подчинена политическим целям Нацпартии - подчеркивала не только вооруженную борьбу, но и содействие национальному образованию, формированию и идеологической дисциплине. Она сосредоточилась на создании организационной силы, установлении лидерства и обеспечении национального будущего Польши после войны.
Со временем часть СЕЙЧАС была объединена с Национальной армией — этот процесс начался в 1942 году и продолжился в последующие месяцы. Однако интеграция не была полной или без конфликта. Большое количество активистов и офицеров СЕЙЧАС выступили против интеграции с АК из-за идеологических разногласий и опасений по поводу доминирования санитарного этоса в структурах АК. Из этих напряжений родилась альтернативная организационная концепция, которая привела к формированию Национальных вооруженных сил (НВС). Формально НСЗ была образована в сентябре 1942 года как объединение части СЕЙЧАС, отказавшейся от унитарных соглашений с АК, с отдельными национальными группировками, действующими в сговоре, включая молодежную среду и вооружённое подразделение ОНР «АВС», или Военную организацию Союза ящериц. Их целью была не только борьба с немецкими и советскими оккупантами, но и подготовка к захвату власти после окончания войны. НСЗ построили свою собственную военную, разведывательную, пропагандистскую и административную сеть и разработали планы будущего политического порядка Польши на основе католическо-национальных принципов.
Одним из ключевых идеологических фонов, формирующих объекты НСЗ, стала так называемая группа «Саниец» — круг публицистов, активистов и заговорщиков, связанных с довоенной буквой «Саниец» и телом «Валька». Это были люди молодого поколения, вдохновленные мыслями Адама Добошинского, Яна Мосдорфа и Зигмунта Дзиармаги, которые придали национальному движению во время войны более радикальный, идеологически последовательный характер. Эта группа не только формировала программу НСЗ, но и отвечала за многие идеологические публикации и политические указания, распространявшиеся в конспирологических структурах.
Помимо НОВ и ННЗ в заговоре функционировали и другие национальные инициативы. Важнее Национальная народно-военная организация (ННОО), созданная в конце 1939 года в результате непризнания законности октябрьского заседания Национальной партии. Его учредителями были активисты СН из бывшей фракции молодых Енджей Гертича и Казимеж Ковальски: Кароль Стояновски и Ян Матлаховский. НЛОУ, несмотря на свою низкую численность, проводила активную деятельность на местном уровне и сочетала национальный дух с социальной озабоченностью. Кроме того, существовали различные местные группы сопротивления с национальной идеологией, которые со временем интегрировались более крупными организациями. Все эти структуры имели общую черту: подчинение вооружённой борьбы более глубокой идеологической цели. Национальное движение рассматривало борьбу с оккупантом не как самоцель, а как инструмент возрождения государства, основанного на католических, иерархических и национальных принципах. Таким образом, его скептицизм основывался на спонтанных, рискованных или политически немыслимых действиях.
Критическое отношение к вспышке восстания в столице
Отношение национальных групп к решению о начале Варшавского восстания было по существу скептическим, а иногда даже критическим. В отличие от многих активистов Национальной армии и общин, связанных с лондонским правительством, националисты не считали вооруженное восстание в Варшаве стратегически оправданным или политически необходимым. Их позиция основывалась не столько на недостатке мужества или дефетизме, сколько на глубоко укоренившемся убеждении, что цена такого рода действий может оказаться слишком высокой, особенно в контексте более раннего национального опыта и оккупационных реалий.
Одним из самых громких критиков восстания еще до его начала был Адам Добошинский — ведущий идеолог национального движения, довоенный депутат и автор многочисленных общественно-политических трудов. В статье, опубликованной в ноябре 1943 года под названием «Экономика крови», Добошинский предостерег от дублирования ошибок национальных восстаний 19 века. Он написал: «В течение двухсот лет плена повстанцы прививали своих врагов полякам, извлекая выгоду из несостоявшихся сбродов, главным последствием которых было уничтожение самых идеальных и патриотичных личностей нации. " Он чувствовал, что этот механизм уничтожения национальной элиты цинично используется противниками Польши, как внешними, так и внутренними.
Добошинский выступал против этой логики «экономики крови» — концепции стратегического управления человеческим потенциалом нации. По его мнению, кровопролитие может быть оправдано только в том случае, если оно приведет к реальным политическим и военным последствиям. В противном случае он был ненужным мучеником. Он писал с акцентом, что повстанческие обрывки ведут к «Добровольное предложение забить лучший национальный элемент» Это механизм, от которого Польша должна отказаться, если она хочет восстановить суверенитет и государственный потенциал после войны.
Когда в августе 1944 года начались бои в Варшаве, многие националисты считали, что самые мрачные предсказания Добошинского были подтверждены. НСЗ и окрестные общины «Санича» опубликовали в конспирологической прессе позиции, подчеркивающие трагедию ситуации и обвиняющие Верховную комиссию в том, что она слишком покорна политическому давлению Лондона и иллюзиям относительно реакции Советского Союза. Националистам было ясно, что Красная Армия не поддержит восстание, а Германия будет применять жестокие ответные меры против мирного населения. К сожалению, эти прогнозы оказались верными, что только укрепило их убежденность в том, что решение подняться было политической ошибкой.
В статье, опубликованной после восстания в ноябре 1944 года, Добошинский прямо писал: Варшавское восстание было не только трагической ошибкой, но и моральным банкротством людей, которые его начали. " Он обвинил командование АК не только в безответственности, но и в уступке романтическому видению переворота, не учитывавшему стратегический расчёт или заботу о жизни гражданского населения. Не менее резким было и опубликованное в то же время резюме Всепольской молодежи. «Варшавское восстание принесло Польше невредимые потери, но почти не принесло никаких выгод. Восстание является уголовным преступлением, за которое несут ответственность некоторые польские центры. Вот что говорит общество, вот как они выглядят на самом деле. Пожилые политики воздерживаются от четкой позиции по этим событиям. Мы, молодые люди, думаем, что только ясное осознание истины может очистить атмосферу. Виновные должны быть привлечены к ответственности, только так они смогут сохранить авторитет наших институтов и властей. Они являются постоянными, независимыми от людей, которые их осуществляют и несут ответственность за их поведение. Об этом писали молодые активисты.
Именно забота о «биосубстанции» нации — о ее будущих сотрудниках, молодежи, разведке, духовенстве — имела решающее значение для националистов. Их скептицизм по отношению к восстанию был не выражением оппортунизма, а последовательной позицией, которая предполагала, что нация должна восстановиться, а не уничтожить себя. Поэтому они отвергли идею «священного долга сражаться любой ценой», считая её наивной и потенциально разрушительной.
Однако реальность августа 1944 года оказалась сложнее идеологических деклараций. Когда приказ о бою стал фактом, к бою присоединились присутствующие в Варшаве в подавляющем большинстве солдаты НСЗ и СЕЙЧАС — часто без формального приказа начальства, но из чувства морального долга перед городом и товарищами. По разным оценкам, в восстании приняли участие от 1500 до 4800 солдат, связанных с национальной средой, включая целые роты и взводы, действующие в составе АК или независимых войск НСЗ-АК.
Это был акт сознательной приостановки идеологических разногласий с общей целью защиты Варшавы. Как писал спустя годы один из участников группы «Хробри II», националисты «Они пришли к восстанию не как энтузиасты политики руководства АК, а как поляки, которые не принадлежали к тому, чтобы оставаться дома, когда их город сгорел. " Это свидетельство хорошо отражает сложную взаимосвязь между идеальной критикой и практическим выбором, который означал борьбу и жертву.
Подводя итог, националисты восприняли Варшавское восстание как ошибку — как с точки зрения военной стратегии, так и национальных интересов. Их критика основывалась на длительном размышлении о судьбе Польши и национальной элиты, которая слишком часто погибала в расставаниях без шансов на победу. Концепция «экономики крови» Добошинского была не только попыткой проанализировать текущую ситуацию, но и более глубоким размышлением о том, каким должен быть патриотизм во времена испытаний — не только эмоциями, но и ответственностью за будущее нации. В то же время их отношение в августе 1944 года доказывает, что это была не холодная или бесчеловечная идеология, а основанная на глубоком чувстве долга, которое в час суда преобладало над политическим расчетом.
Бой
Несмотря на предыдущие сомнения и критику, как только в августе 1944 года были произведены первые выстрелы, националисты (как солдаты Национальной военной организации, так и Национальных вооруженных сил) вступили в Варшавское восстание с полной отдачей. Вопреки распространенному мнению, что их скептицизм мог привести к пассивности, они на самом деле оказались очень дисциплинированными, решительными и самоотверженными. На практике в бою принимали участие почти все присутствовавшие в Варшаве члены этих формирований, подчиняясь структуре Армии Крайовой или действуя в автономных филиалах НСЗ-АК.
По оценкам, от 1500 до 4800 солдат НСЗ и около 1000 членов СЕЙЧАС участвовали в восстании. Различия в цифрах возникают из-за трудностей с документацией и разгоном ветвей, которые часто боролись под криптонимами или в переходных структурах. Фактически, многие национальные отделения действовали под названием АК, иногда временно следуя таким группам, как «Хробри II» или «Радослав», где организационная структура была менее важна, чем боеспособность и верность общей цели.
Примером причастности националистов является компания «Варшава», связанная с НСЗ, которая действовала в основном на Вола и Шродмешце. В его состав входило около 80—170 солдат, включая как довоенных активистов, так и молодых заговорщиков. Они сражались с большими жертвами, защищая, среди прочего, сокращение на улице Огродова, и их участие в боях считается одним из наиболее организованных эпизодов НСЗ в Восстании. Другим важным центром присутствия националистов была группа «Хробри II», где воевали члены НСЗ, в том числе связанные с АК и не связанные с национальным движением Витольд Пилецкий. Одной из самых известных фигур был лейтенант Ежи Сенкевич, п. «Юр», который командовал одним из взводов и погиб в бою в Шродмье. Его отношение было примером этого национального мужества, которое, несмотря на критику политического решения подняться, не отказалось воевать вместе с жителями столицы.
Также стоит упомянуть фигуру Станислава Кашницы, впоследствии последнего вождя НСЗ, который, хотя и не сражался непосредственно в Восстании, сыграл важную роль в координации деятельности НСЗ в Генерал-губернаторстве. За это время он поддержал передачу людей и ресурсов Варшаве. Крупнейшим компактным отделением НСЗ, участвовавшим в боях в самой столице, стала Удалённо-моторизованная бригада «Круг». Это формирование защищало Старый город, сражаясь вместе с другими повстанческими отрядами. Действовали разведывательный полк «Бачинский» и Академический легион НСЗ. Подразделения артиллерии — моторизованная артиллерийская дивизия «Млот» — и формирования жандармерии, как и дивизия «Барри» майора Влодзимеж Козакевича, также были задействованы в «Северной» группе Армии Крайовой. Также были сформированы две символические дивизии НСЗ. 1-я пехотная дивизия была создана 8 августа и включала полк генерала Владислава Сикорского, полк генерала Яна Генрика Домбровского и полк Стефана Чарнецкого Гетмана. Одновременно была создана группа 2-й пехотной дивизии, состоявшая из Четвёртого пехотного полка, Пулавского легиона и полка генерала Ромуальда Траугутта. В борьбу в столице также были включены более мелкие роты и специализированные войска, такие как бронетанковая рота капитана «Юрий», рота лейтенанта Леонарда Канцерчика, «Иеремия», рота «Пиатов» Чеслава Каетана Стулькевича, «Вир» и рота «Тадеуш Блэк», лейтенант Тадеуш Сломиньский. Также действовали командные отделения площади Варшава-Шродмье-Юг. В состав группы «Гоздава» также вошли солдаты батальона Стефана Чарнецкого.
Национальная военная организация выставляла, среди прочего, батальон «Густав», который воевал в Первой области в Старом городе, и батальон «Харнаш» из Шродмесье (в их число входили Вислав Чжановский и Витольд Кежун).
Наряду с вооружённой борьбой националисты также принимали участие во вспомогательной деятельности: операции повстанческих госпиталей, продаже прессы, коммуникаций, строительстве баррикад. Женщины, связанные с национальным лагерем, служили фельдшерами и связными, часто подвергаясь риску жизни. Их участие также не было случайным — это было связано с сильной этикой службы и самопожертвованием национального лагеря, включенного в его воспитание молодежи. Отношение националистов к Варшавскому восстанию было также свидетельством их способности идти на компромисс перед лицом угрозы более высокого порядка. Хотя они политически разобщены и часто конфликтуют с руководством АК, они откладывают споры во время боевых действий, признавая необходимость национального единства. Это решение, хотя и прагматичное, также имело моральное измерение. Национальные войска не проявляли никакого бездействия; напротив, они сражались наравне с другими, и их жертва вписывается в героический дух августа 44 года.
Для многих людей, особенно из опыта Первой мировой войны и последующей борьбы за границы республики, патриотизм означал не стихийное восстание, а ответственность за будущее нации в целом. Критики такого отношения обвиняют ее в прагматизме, граничащем с оппортунизмом, указывая на то, что в моменты суда нация должна быть готова пожертвовать, даже если ее эффективность неопределенна. Однако националисты не ставили под сомнение ценность жертвы как таковой, а ставили под сомнение разумность непродуманного — вырванного, неподдерживаемого, шанса реальной политической или военной выгоды.
Этот контраст лучше всего виден по сравнению с доминирующим военным актом в АК, вытекающим из традиции Пилсудского и легионерского видения политики. В то время как АК предполагал, что вооружённая речь в столице станет политическим и моральным сигналом для мира и элементом построения будущего суверенитета Польши, националисты считали, что критерием оценки военной деятельности должна быть эффективность, а не символизм. Отсюда их противодействие восстанию, которое, по их мнению, не имело достаточного политического или военного фона. С другой стороны, национальная критика не перешла линию лояльности. Когда вспыхнуло восстание, те же люди, которые накануне считали их ошибкой, завладели оружием и воевали. Этот момент имеет решающее значение для понимания их отношения: националисты отличали политическую оценку от моральной ответственности. Они считали решение подняться необоснованным, но бороться за Варшаву в сложившейся ситуации, как долг. В этом смысле их действия были выражением глубоко укоренившейся национальной этики, которая связывала разум с верностью обществу.
Националисты показали, что даже глубокий скептицизм по отношению к политическим расчетам не исключает высшей жертвы обществу. Их отношение, долгое время замалчивавшееся и маргинализированное, сегодня требует честного места в исторической памяти. Потому что, хотя они смотрели на Восстание иначе, чем его инициаторы, они умирали на тех же баррикадах — за ту же Варшаву.
Магдалена Корчак