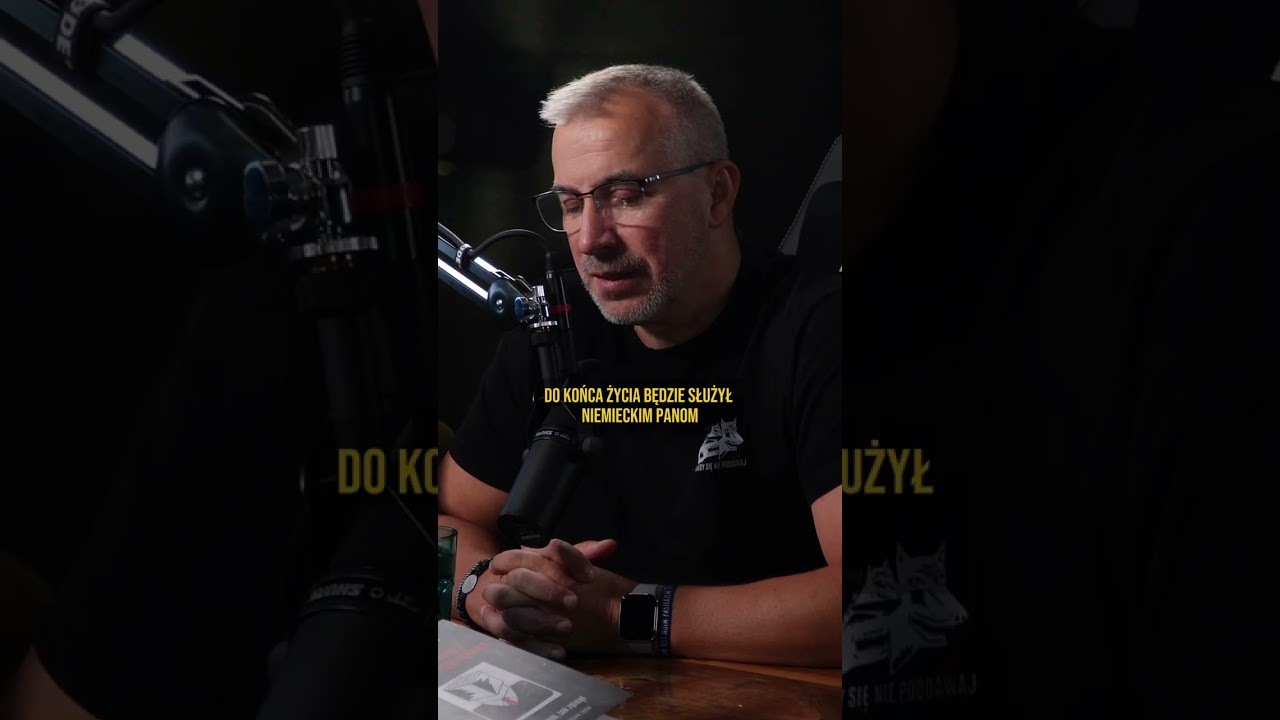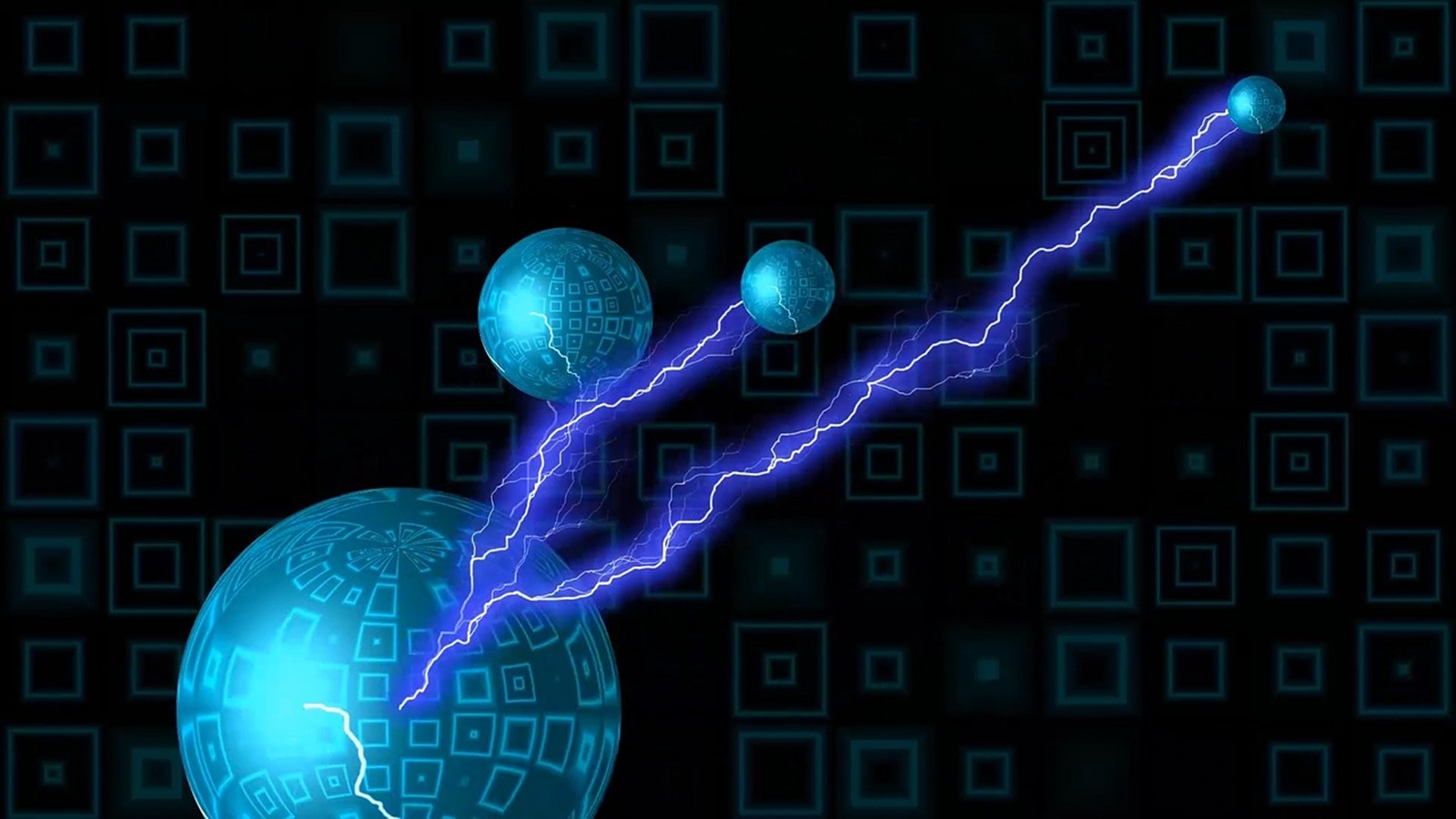Сегодня мы живем в соответствии с мыслью об упрощенном, удобном, поспешном и коротковолновом мышлении, значительно сформулированном с использованием цифровых и ИТ-алгоритмов, мышлении, направленном на решение насущных проблем и достижение непосредственных практических целей. С другой стороны, она вытесняется из коллективной жизни и часто полностью игнорируется здесь, многостороннее мышление, долгосрочное, непригодное для использования; спокойное и рефлексивное; мышление более широких обобщений и неупрощенных выводов, далеко идущее воображение и предсказуемость, а также проницательная познавательная и субъективная независимость. Мышление, достигаемое «открытыми» и независимыми умами в правильных исследовательских процедурах, не пропуская научных процедур, философских исследований или, по крайней мере, когнитивных способностей «здорового разума».
Только в таком редком, «высоком качестве» могут быть достигнуты наиболее желательные социальные цели — например, интеллектуальная основа. Социально правильные отношения, включая отношение к безопасности и войне, и лучше предсказывать будущее. Это замечательное заявление влиятельного философа в последнем случае: «Будущее открыто. Это зависит от нас, это зависит от всех нас. Это зависит от того, что мы и многие другие делаем и делаем сегодня, завтра, послезавтра. А то, что мы делаем и делаем, в свою очередь, зависит от нашего мышления и от наших желаний, наших надежд, наших страхов. Это зависит от того, как мы видим мир и как мы оцениваем открытые возможности будущего. Это означает большую ответственность за нас». (Фрагмент лекции Чарльза Поппера - влиятельного философа 20-го века - 1989)
Теплое «оборонительное» настроение и реальная угроза
В эпоху «современных» войн, войн, основанных на новых технологиях и искусственном интеллекте, и, таким образом, войн почти неограниченной разрушительной и геноцидной силы, необъятности жестокости и бесчеловечности, и войн вообще не достигающих своих (военных) целей (политических, экономических и т.д.); войн, неизбежно впадающих в крайние абсурды и бессмыслицы, в технологическую черствость и бесчеловечность, а кроме того войн, которые на самом деле сближаются с возможностью ядерного катаклизма, и в то же время, как мы переживаем, удивительно рьяного и навязчиво подогреваемого настроения «оборонительных» политиков, или раздутой перивоенной одержимости – громкого сегодня, но весьма спорного лозунга: «Если вы хотите избежать войны, готовьтесь к ней» или «Мы стремимся к миру силой». Заменить его другим лозунгом – вопреки более важному и актуальному, а именно: «Если вы хотите избежать войны, познайте ее глубже и займите правильное отношение к ней. " Однако практическая эффективность этого второго лозунга зависит от его широкого общественного признания и сильной гражданской поддержки по обе стороны «военной баррикады» — как на стороне господства военных государств, так и на странах и обществах военной агрессии.
Необходимо «соответствовать» современным знаниям о войне и понимать ее должным образом; понимать ее конкретно. соответствующее отношение к ней Военные конфликты между коллективами и индивидами. Возможно, они в большей степени, чем все другие социальные факторы, влияют на сохранение относительной стабильности. «Межвоенное государство», Я имею в виду, безопасно жить в мире и безопасности. Без военных попыток осуществить расходящиеся интересы и устремления отдельных государств и наций, политических и экономических соглашений.
В настоящее время утверждается, что Начало войны Это зависит не только от тех, кто по своим собственным причинам и по своей свободной воле, очень сильно, или тех, кто без своей воли – и часто к своему удивлению – вынужден к ней (например, самовольным нападением), и не только от тех, кто от своего собственного создания и вооруженных действий открыто готовятся к ней (например, за счет чрезвычайного увеличения военных бюджетов (защитников), интенсивного подкрепления, расширения и военного совершенствования армии, оснащения себя самыми современными технологиями и достижения цифровой революции), создания и укрепления военных союзов и т. д. – и, наконец, действительно (чаще всего вопреки ожиданиям и одобрению своих собственных обществ) – выводят ее, ведут и через некоторое время заканчивают ее (в основном без фундаментального разрешения), но и от того, что она, как правило, не имеет фундаментального решения. Зависимость (зависимость) И, возможно, прежде всего, от Социальное, гражданское отношение к войнеОт коллективного и индивидуального Понимание и понимание его «современный» характер и сущность, из соответствующего оценка его последствия и последствия, а также от сильно мотивированного и полностью решительного и последовательно антивоенного коллектива - насколько это возможно - Ссылка За нее.
Нас никто не спрашивает.
«Удивительно и тревожно, что так называемое довоенное государство — это время, когда многие наши и европейские политики убеждены, что внешняя агрессия или война в нашем геополитическом пространстве рано или поздно неизбежна, и что поэтому настало время предпринять чрезвычайные и дорогостоящие процедуры для защиты границ и безопасности страны, и что война должна быть надлежащим образом — посредством максимального современного подкрепления и всей другой военной техники — должным образом подготовлена; что теперь обязанностью правителей является убедить общественность в том, что «довоенное государство» неизбежности, хотим мы этого или нет, движется к «военному государству» и что это условие даже является неизбежным историческим условием».
Интересно также, почему так мало говорится как в публичном пространстве, так и в частных беседах, публичных дискуссиях, школьных уроках, академических лекциях, и особенно в дипломатических встречах и на других важных форумах обмена мнениями и оценками о функционировании современного мира. личные и гражданские отношения Почему бы не проводить более широкие специализированные эмпирические исследования (например, социологические, психологические или антропологические) в области таких отношений? В интеллектуальных центрах христианских церквей также нет значимых заявлений о них (заявления покойного папы Франциска на самом деле являются исключением, поддерживаемым, как бы для утешения, объявлениями о мирной миссии папы Леона XIV). В частности, слабый голос в этом вопросе, или даже молчание, или даже поддержка провоенных установок со стороны некоторых духовных лидеров других религиозных религий (например, значительные разделения православия или ислама).
И не может быть согласия, что в сфере господствующих "официальных" взглядов на войну и безопасность сейчас преобладают предвзятые, строго придерживающиеся так называемой политкорректности, пропагандируемые СМИ, и слишком часто игнорируемые общественным мнением, политический (правительство, партия, идеологизированная) трактовка актуальных вопросов войны и безопасности.
И это – можно сказать – узурпаторский и крайне политизированный и явно односторонний нарратив вокруг войны, скрывающий или предвзято объясняющий правильные причины и условия и возможные последствия потенциальной войны, эффективно вытеснятьИ даже довольно часто полностью устраняетШирокий, естественно разнообразный, но наиболее подходящий здесь Круг справок и мнений граждан по актуальным вопросам войны и безопасности.
Практическое ранжирование отношения к войне
С социальной точки зрения в сфере отношения к войне и безопасности можно различить наиболее простое и в то же время практически полезное их разделение, а именно:
- Отношение к социально желательной войне (используется) и
- Социально нежелательное отношение (неиспользуемый) и
- Отношение к войнеинструментально, механически, без учета его предмета, человеческого (дегуманизированного) и
- Отношение, которое относится к войне личноИнструментально, немеханически, с предварительным рассмотрением его антропологического фактора («гуманизированный»).
Вот они:
Социально желательно (полезно)
В познавательной сфере она в достаточной мере содержит базовое, критическое и самопродуманное знание о природе, сущности, драме и жестокости войны, об измерении ее смертоносного и разрушительного действия.
о том, что она принадлежит к худшему из возможных человеческих переживаний, и прежде всего о том, что она делает с человеком (убийство, ранение, причинение боли и страданий, лишение достоинства и человечности и т.д.).
В эмоционально и интеллектуально более глубоких и мотивированно более сильных версиях войны это отношение также показывает способность глубже подражать сфере трагедии и ужаса, варварства и драмы войны, ее античеловеческому и антижизненному характеру; способность постигать ее специфическую глупость и глупость, фундаментальную несправедливость и недемократичность, деловой и предвзятый политический фон, а в случае «современных» разновидностей войны огромные, даже «неприветливые» ценности.
В дополнение к естественному страху и беспокойству, смешанному с чувством личной опасности и опасности, он реализует себя. Личное сопротивление и оппозиция против войны, особенно против ее исполнителей и сторонников, а также против личных Воля и готовность приложить усилия, чтобы смягчить или свести к минимуму негативные последствия военных конфликтов, помочь их жертвам, вмешаться в их защиту, проявить эмпатическую солидарность и, в частности, позаботиться о прекращении военной катастрофы и о будущем «мирном порядке». Также Воля и готовность к той или иной форме личного и социального протеста и противодействия как продолжающимся войнам, так и подготовке к ним и провоенной идеологии и пропаганде.
Социально непригодное (неполезное) отношение к войне
Такое отношение противоположно социально желательному отношению к войне. Он проявляет иные качества и проявления, чем он. И поэтому в когнитивной составляющей она не содержит многосторонних, критических и самопродуманных знаний о войне, о ее дегуманизации, бессмыслицах и парадоксах, о ее стремительно возрастающих разрушительных последствиях, о ее распространении ужаса и жестокости, о глупости и безумии («античеловеческий ужас»), о ее великом потенциале превратиться в глобальную, мировую войну, а также о ее большем, чем кажется, вероятном превращении в ядерный конфликт или тотальную антропологическую катастрофу.
При ослабленном и одностороннем знании войны и с неясным осознанием ее катастрофы довольно распространено такое отношение, чтобы иметь такую своеобразную особенность менталитета и предвоенного настроения, которая выражается в чрезмерном интересе к войне, в собственном увлечении войной, беззаботном отношении к негативным атрибутам войны, например, к социальному хаосу войны, нарушенной безопасности, жизни в нищете, страдании, чувству опасности жизни и выживания. Все это с тенденцией легко оправдывать войну, субъективно принижать ее жестокость и ужас, а следовательно, и не противодействовать ей. Легко также принимать открыто провоенную деятельность, например, поддерживать или принимать чрезмерное вооружение, высокие вооруженные бюджеты, развивать ультрасовременные военные технологии, утверждать силы в международных отношениях, со скептицизмом относительно необходимости и эффективности дипломатического посредничества, политического диалога и компромисса, возможности взаимного общения и понимания.
Крайним проявлением такого «открытого» отношения к войне является наличие в ее сфере мотивации потребности в личной войне, собственного участия в войне, с достаточно распространенной верой в то, что только в войне можно добиться наивысшей индивидуальной самореализации (одна из своеобразных мотиваций участия в войнах так называемых военных добровольцев, признающих «военный корабль» выдающимся способом бытия и самоутверждения).
Социально нежелательно тоже Неразвитое отношение к войне ('').
Это отношение характеризуется недоразвитостью большинства его интегральных составляющих: знание войны, умение правильно ее оценивать, личное отношение к ней (эмоциональное, моральное, мотивационное), обоснованное одобрение или неодобрение и т.д. Прежде всего, он проявляет слабый интерес к войне, пассивное отношение к ней, смутное суждение о ее негативных качествах и последствиях, слабость в смысле опасности с ее стороны, нерефлексивное «отвращение» от сферы сознания, уверенность в том, что «со мной ничего не случится» и, что хуже всего, что «это будет то, что должно быть». В результате нет необходимости в какой-либо самообороне или личном участии в вопросе безопасности и мира в этой позиции большего «сворачивания» войны и выражения реакции на нее.
Антивоенный императив
Во времена «трудных и беспокойных», как мы обычно это называем, во времена нарастания напряженности и антагонизма в международных отношениях, расширения областей текущих или потенциальных войн, реальных угроз мировой войне, включая ядерную войну, и в то же время
В то время как управление государствами и международными отношениями мысленно и профессионально зачастую недостаточно адаптировано к этим сложным и все более сложным ролям элиты политического руководства, существует настоятельная и неотъемлемая потребность в новых и максимально улучшенных стратегиях макросоциальных и геополитических действий.
Прежде всего, необходимо включить в процессы и процедуры основные проблемы современности, включая вопрос безопасности, войны и мира, мнения и создание широких социальных и гражданских кругов; мнения и действия, выраженные не только формально (например, в парламентских резолюциях, референдумах или опросах общественного мнения), но и - и, возможно, прежде всего - в жизни и социальных установках большинства членов соответствующей общины. Что касается рассматриваемой проблемы, то она касается отношения большинства населения к войне и безопасности. В частности, в подходах, которые мы описали здесь как социально желательные отношения. Это можно считать приоритетным требованием настоящего времени. Это требование также заключается в предоставлении каждому человеческому подразделению неотъемлемого права на горькую правду о современных войнах — их возросшей смерти и силе разрушения, полной дегуманизации и бессмыслицы, а также их реальных источниках и причинах, мучительных затратах и скрытых выгодоприобретателях и вообще говоря. Неадекватность традиционной парадигмы мышления о войне.
В частности, Социализация внешней безопасности и войныИными словами, переход через социальные установки вопросов определения и принятия решений в этой области из сферы компетенции и компетенции, зачастую некомпетентных политических элит (социальных меньшинств), на уровень гражданских полномочий и компетенций (социального большинства).
И независимо от того, насколько это требование реально и насколько иллюзорно или утопично, именно потому, что в современном мире в вопросах безопасности и войны это требование претендует на исключительно важное и своевременное, так как драматично, что чувствительные проблемы современного мира, включая проблему безопасности и войны, не могут быть должным образом и эффективно решены на основе сугубо парадигм политического мышления и узких решений, а кроме того недостаточно компетентной «политической элиты». Очевидно, что здесь необходим более широкий и глубокий личностный, духовный и интеллектуальный потенциал.
То, что можно было бы разумно и ответственно «делать» на этой тотальной опасности, обещав поле, вероятно, было бы со временем проверкой здравого смысла и инстинкта самосохранения и, если кто-то предпочитает другой термин, «раскаяние в развитии».