Богдан Добош: Есть ли еще нация во Франции?
Богдан Добошhttps://pch24.pl/bogdan-dobosz-we-France-exist-yet-nation/

Что ждет французов в 2025 году? Писатели Чарльз Ройзман и Кристоф Бутин пытались ответить на этот вопрос. В июле, когда Республика праздновала свое рождение, эти два мыслителя предупреждали: «До молчаливой эрозии французского народа: потребительская глобализация, культурный эгалитаризм, который стирает историю и политический исламизм, подрывающий основы общих национальных связей». Страшное видение Франции также «Жидкие границы, потеря общей памяти и суверенитета».
Оба видят элиты страны, которые отрезаны от простых людей. По их мнению, сегодня отсутствует национальный нарратив и формы его передачи, в которых школа, язык и традиции обычно играют первостепенную роль. Видение этих элит - "раздробленная Франция, без совместного проекта". Отзывы обоих авторов заслуживают внимания, поскольку Большая часть их предложений касается других стран ЕС, в том числе, к сожалению, Польши.
Гобализация, неокоммунизм и исламизм\
Свои мысли авторы представили в «Атлантике». Шарль Ройзман утверждает, что французский народ сегодня «застрял в ловушке, и три основные силы способствуют его символическому упадку». В ней перечислены процессы рыночной глобализации, которые приводят людей к роли потребителя, «культурный неокоммунизм», который стремится стереть традиции и осознание исторического прошлого во имя абстрактного прогресса, идей эгалитаризма, а также политического исламизма, который стремится заменить национальные ценности глобальной «уммы», без местных корней. По его мнению, эти тенденции «имеют одну общую черту: они растворяют общее, ослабляют наше наследие, делают любую привязанность к исторической преемственности почти подозрительной».
Это включает в себя кризис размывания культурных, символических и территориальных границ, которые составляли нацию. Писатель добавляет, что это не будет внезапным исчезновением французов, потому что французы не умерли, хотя они больше не думают о себе в этих категориях. "Франция существует, но больше не признает себя и разбита на социальные и культурные сегменты, она больше не в состоянии создать политическую форму, способную объединить ее».
Реальность псевдоэлиты
Источником этой ситуации является «глубокий разрыв: между бескоренной элитой, которая отвернулась от истории и мира простых людей, и молчаливым большинством, которое больше не отождествляет себя с официальным проевропейским повествованием элит». Не существует общего проекта, памяти или общих институтов, и происходит медленное разрушение последующих социальных связей. Элиты презирают патриотизм и «народную идентичность», повседневную культуру простых людей, такие как жесты, праздники, обычаи, язык, ярмарки, традиционные обычаи. Колбаса становится подозрительной, сельский фестиваль рассматривается как исключение, уличный аперитив - это побег в идентичность, мы больше не ценим наследие, мы празднуем распад, мы деконструируем. Кристоф Бутин добавляет, что «в рамках того, что он назвал бы псевдоэлитой, всегда была сильная тенденция презирать народную культуру», но теперь она стала идеологической. Левые по-прежнему считают, что это создаст "идеальную систему", а их конструкция "только правильная".
Бутин объясняет, что «исторически нация всегда коренилась в ряде элементов». Например, «люди имеют территорию, они устанавливают границы, они предполагают четкое различие» между своими и чужими. Сейчас это нисходящее стирание нации, которое является «европейским строительством», и сама концепция границ становится мимолетной. Государство также создает свои права. Однако «под бременем прецедентного права, такого как Европейский суд по правам человека», национальное право становится вторичным по отношению к трансграничному строительству.
Проблема лидерства и суверенитета
Бутин также обращает внимание на отсутствие руководства, «необходимое для жизнеспособности каждой нации». Это даже не обязательно должен быть глава государства, как проиллюстрировала Джоанна д’Арк, которая в какой-то момент «персонализировала национальный страус». Кроме того, генерал Шарль де Голль в то время, когда он воплощал национальную идею в 1940 году, не был главой государства». Однако Голлизм отвел эту роль президенту, и Бутин отмечает, что «в нынешней ситуации мы не можем сказать, что Эммануэль Макрон воплощает нацию, в любой области и форме».
Ключевым элементом жизни нации является также ее суверенитет, а «быть суверенным означает иметь возможность свободно решать о своих действиях». Здесь мы имеем дело с передачей компетенций в рамках Европейского Союза, которая «подорвала эту идею свободного принятия решений во многих областях». Бутин считает, что тезис Эммануэля Макрона, который считает, что одновременно можно иметь европейский суверенитет и национальный суверенитет, является "очевидной ересью".
«Мы на перепутье»
Другой проблемой является «утилизация наследия». Внутренний исторический дискурс, который преобладал в последние годы, был призван представить французскую национальную историю как серию массовых убийств, серию абсолютно катастрофических событий, о которых французы должны сожалеть сегодня, нести последствия и извиняться каждый день. История нации призвана заменить видение непоколебимого будущего. Это современное видение европейской интеграции, которая является попыткой уничтожить нации как источники войны, вражды, насилия. Однако конфликты всегда существовали и существуют, они могут переходить с национального уровня на войны империй, блоков, социальных, классовых, внутринациональных вражд. Бутин однозначно заявляет - "сама нация не является причиной войны, и очень часто может быть предметом диалога, переговоров и переговоров", гораздо эффективнее транснациональных структур.
Чарльз Ройзман, описывая Францию, говорит: «Мы находимся на перепутье». Иммиграция также играет здесь разрушительную роль. В этом кризисе мы должны иметь мужество сказать одно: массовая иммиграция, которую мы пережили в последние десятилетия, не является нейтральной. Мы верили, что все будут интегрироваться естественно, но для того, чтобы интегрироваться, должен быть общий нарратив, память, которой можно поделиться, - добавляет он. - Нам нужны границы, не из-за враждебности, а потому, что мы не можем требовать, чтобы все население, которое пришло с другими ссылками, присоединилось к нации, которая больше не рассказывает свою историю. Массовая иммиграция сегодня приносит население, которое не может или не хочет ассимилироваться, но которое часто враждебно национальному повествованию и истории этой страны». Автор добавляет, что Франции «не хватает мужества для общего блага, мужества защищать то, что мы унаследовали: не как крепость, а как живое наследие». Авторы «Атлантико» видят возможность сильного руководства, маловероятной интеграции французов вокруг идеи «общего врага» или перестройки и определения общих мифов, что после многих лет деконструкции «кажется особенно трудным». Так что перспектив нет.
Богдан Добош





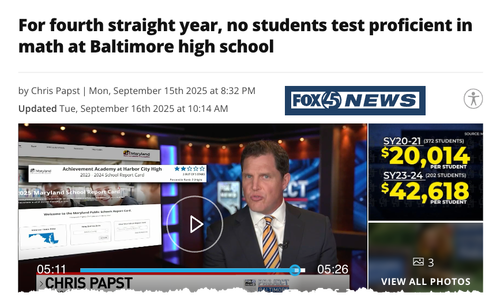









![Święto Wina 2025 – dzień drugi: historyczny korowód, konkursy i występy gwiazd [fotoreportaż]](https://www.roland-gazeta.pl/media/k2/items/cache/b4e45d70655fb708eb982278bff16c04_XL.jpg)

