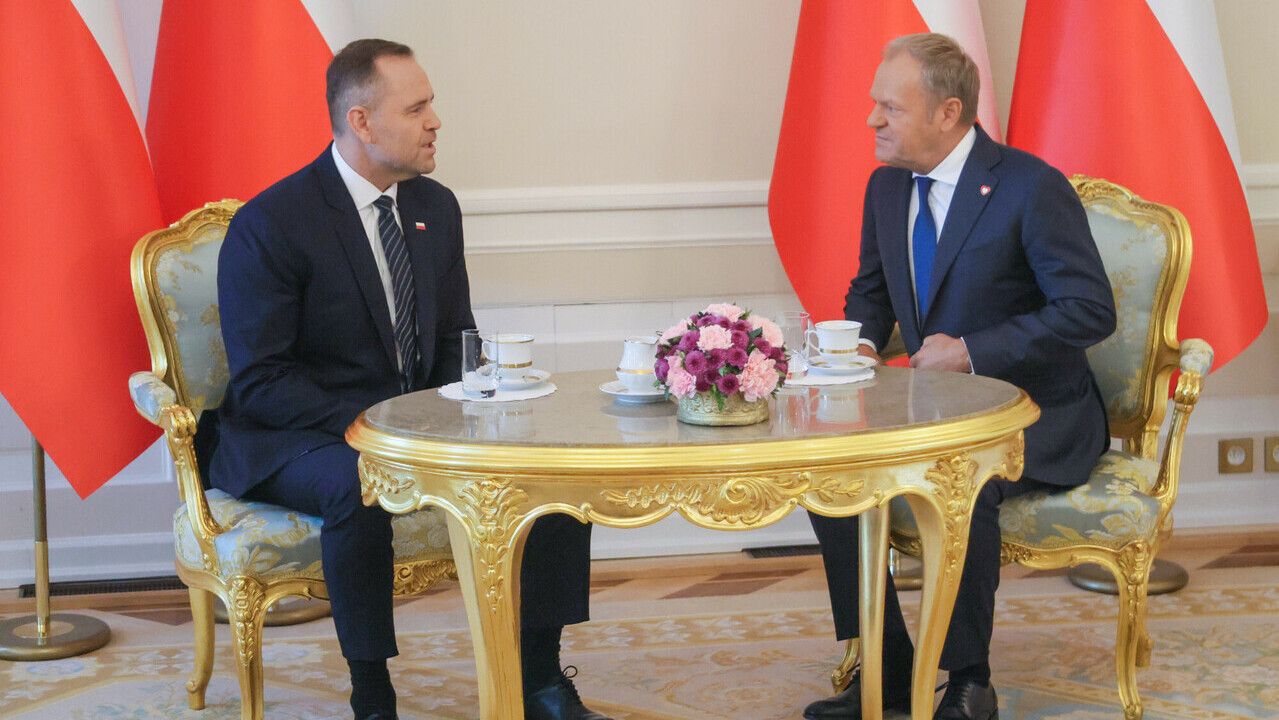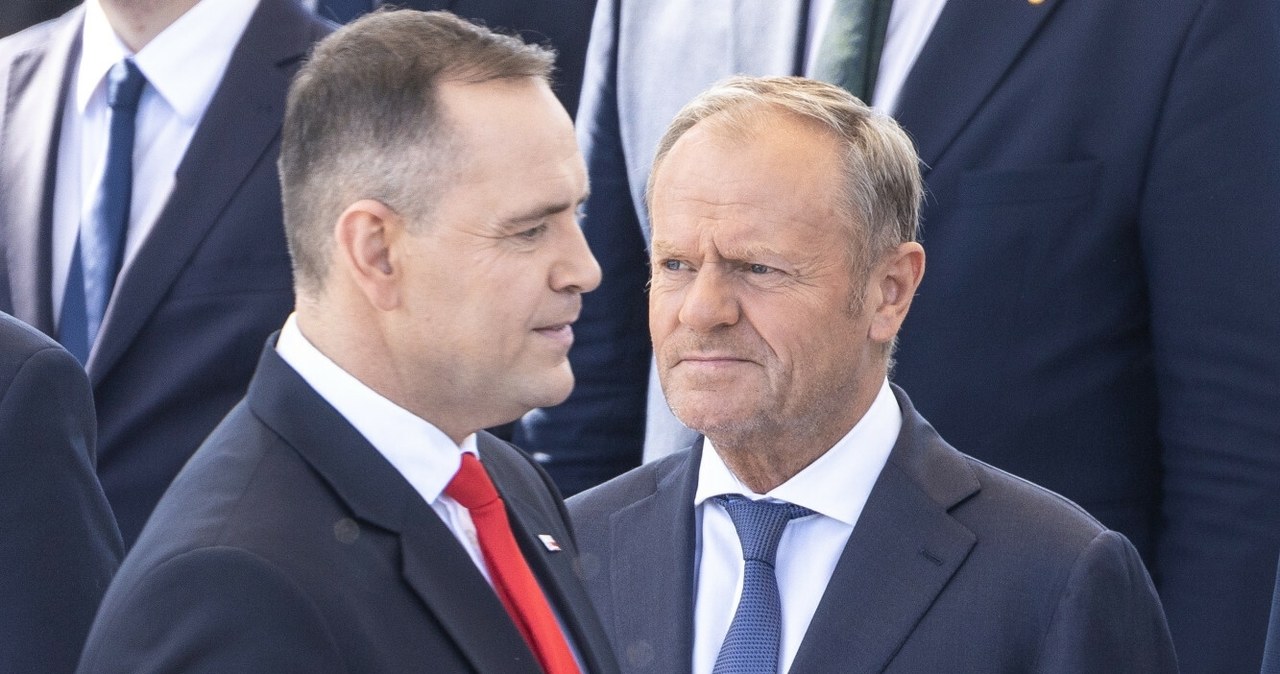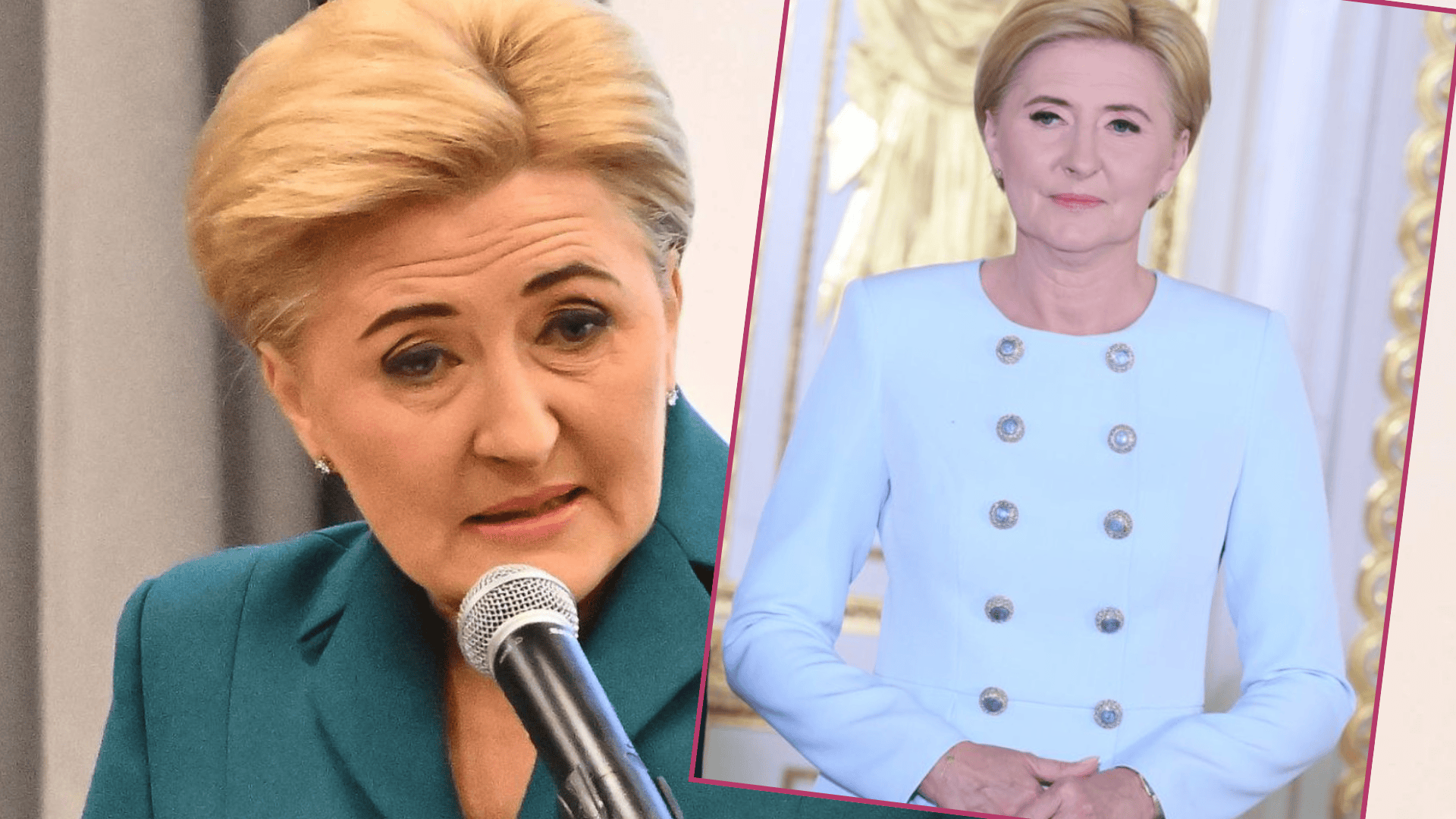Проблема зла была запрещена. В политике это касается только тоталитаризма. Он упрощается и ритуализируется, что затрудняет обдумывание. Хотя зло немыслимо, оно выглядит как незваный, неприятный гость.
Утилитаризм как источник страданий
Спустя много веков — после пробуждения современных надежд на преодоление элементов человеческого состояния, зависимых от человека и его продуктов (технологий и институтов) и разработки концепции безопасности, как описал Мишель Фуко во время лекций в 1978 году — в 19 веке утилитаризм вернулся, чтобы установить счастье с мерой человеческой жизни. На этот раз она была еще больше связана с максимизацией счастья, как индивидуального, так и социального. И вот в чем была проблема, ведь что значит максимизировать счастье, удовольствие, избегать неприятностей, вреда, страданий, не прикладывая руку к несчастью? Как вы рассчитываете или рассчитываете? Даже для конкретного человека это непросто. Дилеммы, о которых говорилось выше, возвращаются. Это количество или сила? Или они корректируются на важность области для конкретного человека? Например, хотя необыкновенное счастье можно испытать после победы в любимой баскетбольной команде, события семейной или профессиональной жизни более значимы. Однако они не вызывают такого всплеска эйфории. Как мы можем относиться к тому, что он считает счастьем, и в то же время принимать жертвы и неприятности? Но что, если цель в конечном итоге не достигнута, или если она не приносит желаемого счастья, или даже становится источником печали? Как наши расчеты влияют на наши когнитивные ошибки, ошибочные суждения и решения на их основе? Кроме того, есть вовлечение других людей или культур, которые также могут исказить наши желания. Фрейдистское стремление к разрушению или принцип повторения также не облегчают дела. Что, если бы Ницше был прав, говоря, что удовольствие или неприятность — это всего лишь впечатление, на которое не нужно слишком сильно давить, не слишком привязываться к ним, тем более, что часто можно влиять на них, изменяя отношения, принимая другую точку зрения или отношение к жизни?
Здесь мы подходим к еще большему вызову или максимизации счастья в социальном измерении. Как сочетать индивидуальные расчеты с социальной перспективой? Как мы узнаем, повлияет ли наш выбор или счастье на других? Что, если счастье одного человека означает несчастье другого? В конце концов, это не обязательно должна быть одна и та же сила в каждом случае – для кого-то работа в данной должности будет большим счастьем, возможно, единственным в более длительный период, для другого гораздо меньшим, одним из многих недавних успехов. Кто-то может увидеть или почувствовать печальную необходимость. Знание этих сложностей не помогает рассчитать. Вновь возникают подводные камни мышления, факторы, влияющие на признание и оценку ситуации, в том числе отношения во всех непосредственно вовлеченных. Все это выходит за рамки способности к понятию, точному различению и анализу, поэтому мы полагаемся на наши когнитивные ошибки, предпочтения личности и языковые миры, чтобы найти себя в данных ситуациях. Таким образом, утилитаризм пронизан большой неопределенностью, неприятной ситуацией в себе, хотя наш ум пытается устранить ее с помощью упомянутых стратегий, сделать ее невидимой и бесчувственной.
Бентам, один из создателей утилитаризма, указывал, что правительство должно также следовать принципу полезности и быть судимым самим. Эта задача по тем же причинам описана не проще. Политики и их избранные граждане выполняют краткий, импровизированный расчет добра и зла, особенно с точки зрения минимизации несчастий или страданий в их власти. Это ставит себя во главе, и они оставляют стремление к счастью и его максимизации в индивидуальных руках. Даже такое отношение, взятое у Гоббса к современной либеральной демократии, не решает и не выносит проблем утилитаризма. Более того, он создает новые, которые не выделяются критиками.
Кто позволит тебе умереть на дороге?
Автомобильный транспорт является хорошим примером этого. В течение многих лет государственные органы и международные организации борются за повышение безопасности дорожного движения. По мере увеличения количества автомобилей проблема становилась все более актуальной. Больше водителей чаще попадают в аварии, больше жертв и даже жертв. Если что-то не изменится в трафике. Система подготовки водителей, правила дорожного движения с ограничениями скорости, к неизбежности и ужесточению штрафов, лучшей маркировке, использованию все более передовых технологий для повышения безопасности транспортных средств и снижения риска травм пассажиров (от подголовников, подушек безопасности до передовых систем управления тягой или обнаружения опасности). И все же, с точки зрения утилитаризма, этого все еще недостаточно. В 1990-х годах в Швеции была разработана концепция достижения нулевого уровня несчастных случаев со смертельным исходом. Его создателем был Клас Тингвалл.
В этой постановке вопросов мы видим дополнительное предположение относительно расчета добра и зла. Смерть, которой можно избежать, является главным фактором, определяющим вред и страдания. В то же время предполагается, что общее число жертв, в том числе в результате менее опасных событий, также будет сокращено в целях его ликвидации. Это то, для чего предназначено ограничение скорости или технология, используемая в автомобилях, даже если это связано с неприятностями, такими как более медленное вождение в местах, где вы хотели бы ездить быстрее, более высокие штрафы за оплату или потерю водительских прав за нарушение правил, и даже их собственный спектр, плюс более высокие цены на транспортные средства. Однако это, даже если оно более распространено, считается менее значительным в общем счете транспортных страданий. Это стоит того, чтобы максимизировать счастье. Следуя примеру Августина, можно сказать, что радость, вызванная переживанием аварии, ее участником и окружением, перевешивает даже неудобства окружающих.
Но этого было недостаточно для Тингвалла. По его мнению, следует также изменить перспективу развития автомобильного транспорта. В нем, в отличие от коллективного транспорта (воздушного, железнодорожного или морского), моральная и юридическая ответственность за ДТП в основном лежит на стороне индивидуальных участников дорожного движения. Только перенеся его больше в органы власти, можно нацелиться на полную ликвидацию смертельных случаев. Люди совершают ошибки, связанные не только с мышлением, но и при выполнении, казалось бы, схематических действий, в том числе хорошо обученных. Трагедия, как в авиации, должна привести не к большим ошибкам, а к маленьким, незаметным. По словам Уильяма Крамера из Би-би-си, описывая историю бывшего директора по безопасности дорожного движения в Шведской дорожной администрации, из анализа несчастных случаев со смертельным исходом на дорогах выяснилось, что это были незначительные обычные ошибки, а не преднамеренные нарушения закона (в том числе за рулем алкоголя) чаще всего приводили к несчастью. Конечно, если бы вы спросили об этом в исследовании, аналогичном исследованию, проведенному Калеманом и Тверским, многие люди ответили бы иначе. Причиной этого является в значительной степени экологическая система, где не хватает места для простых ошибок.
Это уже не ответственность водителя, а должностных лиц и политиков, которые берут или не берут предмет и создают правовую базу. Так родилась идея монтажа перил между полосами. Они предназначались для ограничения смертности на дорогах в результате ведущих столкновений. Как признался Тингвалл, они приведут к авариям. В конце концов, они попадают в автомобили в ситуациях ошибки водителя. Но это также произойдет в моменты, когда с улицы ничего не будет, и поэтому не было бы столкновения, если бы не было барьеров. Однако их конструкция должна обеспечивать их безопасность и приводить к незначительным повреждениям при вождении предписанным способом. Даже по этой причине повреждённый автомобиль, возможно, также повреждённое здоровье водителя или пассажиров, является ценой счастья, которое не произошло самой большой трагедией, пусть даже потенциальной. Расчет счастья в результате неспособности совершить большее зло, вероятность такой ситуации усложняет утилитарные расчеты, добавляет им еще больше неопределенности. В конечном счете, однако, чиновники и чиновники, производители транспортных средств, водители и их пассажиры несут ответственность за счастье на дорогах.
Дорожные аварии, особенно те, в которых произошли травмы, сочетают в себе еще одно измерение максимизации счастья путем борьбы со страданиями - спасение жизней и восстановление здоровья жертв. Это делается для того, чтобы способствовать развитию медицины и применяемых в ней технологий, а также знаний и опыта врачей, чтобы все, что видело современное время в улучшении человеческого состояния и человеческой судьбы. С того момента, как было замечено, что врачи ставят диагноз хуже, чем алгоритмические модели, они начали задаваться вопросом, как с этим бороться. Больница Саннибрук из Торонто проложила путь. Он был построен как военный госпиталь. Во время Второй мировой войны были ранены солдаты. После этого, однако, он потерял некоторое значение, пока рядом не была построена огромная автомагистраль 401. Было много несчастных случаев. Поэтому они стали специализироваться на послеаварийных травмах. Они часто сложны, сложны, требуют комплексной диагностики и сложных решений, часто в короткие сроки, в толпе других случаев. Это открывает пространство для возможных ошибок. Чтобы помочь, вы не можете должным образом распознать состояние пациента, выбрать неправильный путь лечения и, таким образом, не только уменьшить страдания, но даже увеличить его. Поэтому неудивительно, что для того, чтобы избежать ошибок, больничные власти создали положение, в котором работающий человек должен был иметь дело с медицинскими ошибками или, более конкретно, предотвращать их, контролировать и говорить с врачами об их образе мышления во время диагностики и принятия решения. Это снижает вероятность болезненных ошибок.
Superega Культуры: что хорошо, а что плохо
Это примеры утилитарных расчетов на практике. Слияние воли власти – контроль над природой, а также непредсказуемые события, т.е. ошибки, управление безопасностью, при котором каждый элемент системы также имеет часть власти и вытекающую из этого ответственность – со счастьем, частично вытекающим из этих побед. И вас может только удивить, как это описание подходит как к либеральной демократии, так и к капитализму, коммунизму, фашизму или нацизму. Системы настолько разные, и все же возможные, когда каждый, или по крайней мере большая часть данного общества разделяет предпочтительный и различающий способ мышления, по существу соглашается с ним, не дает ему особого сопротивления как интеллектуального, так и физического, подчиняется ему, люди признают свое место в нем и место других. И, может быть, самое главное, они воспринимают добро и зло в соответствии с его перспективой.
Для нацизма было хорошо то, что в соответствии с «законами природы», определенными теорией рас (в Европе и Америке со 2-й половины 19-го века довольно популярны были различные ее версии, взятые из климата эволюции), по крайней мере, похоже на представленный Альфредом Розенбергом и чистоту поднятой Гитлером арийской расы, в которой он думал не только о представителях других рас, но и о больных, слабых, инвалидах. Зло было тем, что противостояло этим понятиям, сопротивлялось, что приводило к нечистоте. Поэтому эти элементы необходимо устранить. Такое мышление толкало и толкало к действию. В конце концов, это привело бы к победе и счастью — доминированию расы господ над миром, расы сверхлюдей, конкретной нации — немцев.
В коммунизме добром считалось то, что отвечало за «права истории», а именно — обеспечение всеобщего равенства людей, освобождение их от необходимости неестественных потребностей, но воли немногих людей, владельцев средств производства и капитала. Те, кто выступал против этого или задерживал ход истории — капиталисты, кулы, противники коллективизации или мирового государства, партийная оппозиция, люди, воспринимаемые как реакционеры, — считались злом, подлежащим устранению. Когда это произойдет, после достижения коммунистической цели, счастье возобладает. Однако, поскольку принадлежность к определенной группе, социальная позиция или взгляды и образ мышления зависят от человека или, по крайней мере, могут быть затронуты (в отличие от происхождения или конкретных биологических особенностей), предполагалось, что из двух тоталитаризмов - преступных государств, где насилие было санкционировано юридически, как правило, а не исключением в чрезвычайных ситуациях - нацизм был ниже. Независимо от количества жертв. Это и есть утилитарный баланс между ними. Даже в либеральных демократиях коммунизм, который отказывается от революционного насилия как инструмента завоевания и поддержания власти, считается приемлемым взглядом и политической силой. Он имеет более универсальные критерии добра, зла и послания.
Больше проблем с показаниями арка — принцип различения, специфика добра и зла, оправдывающий решения, которые с других точек зрения не только непостижимы, но прежде всего считаются злом, — это в случае фашизма и его многообразия модернистский национализм. Это по нескольким причинам. Во-первых, потому, что существует множество интерпретаций концепции фашизма. Она уже демонстрирует трудности, с которыми столкнулись исследователи, чтобы понять феномен этого движения, политической организации и идеологии. Что еще хуже, некоторые из них были эксклюзивными, например, те, которые видели в нем движение модернизации, и те, которые видели в нем силу реакции. Ему также не было легче выступать во многих странах, каждая из которых имеет свои местные особенности. У него не было международной справки, хотя наиболее символичное разнообразие, из которого было получено название, родилось в Италии. Иногда фашизм путали с нацизмом. Однако он был найден не только в разных странах, но и в разное время. Роб Риман пишет о вечном возвращении фашизма, признавая, что это зашитая тенденция в современных обществах, которую можно освободить в любое время. Для него это разрушительная тенденция, а не тенденция к росту, на которую указывают его сторонники. Вот почему каждое десятилетие можно читать множество статей в прессе, объявляющих о возникновении фашизма, его проявлениях, опасности фашистского рецидивизма. Так что вокруг него много шума, что с точки зрения Калемана-Сибони-Сустейна. Одно можно сказать наверняка, это характерное явление в демократических и массовых обществах. Поэтому это нечто особенно современное. Точно так же, как и либеральная демократия, и из-за тревожных сходств, которые могут быть неправильно идентифицированы и оценены, невыявленные достаточно точно и даже бессознательно идентифицированы. И таким образом они могут невольно превращаться друг в друга, особенно для не очень проницательных, хотя и внимательных, общественных наблюдателей.
Фашизм против либеральной демократии
Фашизм исходит из того, что целью должно быть укрепление сообщества, доминирование в нем, в регионе или в мире. Все, что служит этой цели, хорошо. Таким образом, это может быть экономическая, военная, политическая или культурная позиция. Вторым должны служить национальные мифы, которые реагируют на кризис традиционного общества, создавая социальные связи и преобразуя или укрепляя дух членов нации, больше, чем граждан, — понятия, относящиеся к одним и тем же людям, иногда взаимозаменяемые, в другое время имеющие большое значение. Но это стремление к сильному сообществу не является чем-то необычным. Даже среди демократических и либеральных государств. Тем более, что каждый находится в положении, хочет он этого или нет, и он хочет иметь возможность как можно больше значить, достигать своих целей, стремясь улучшить благосостояние и качество жизни своих граждан. Критерии снова могут быть разными. Не только в материальном, но и в духовном измерении, важном для фашизма. Либеральные демократии признают свою политическую культуру и ценности над другими, они хотят распространять их, признавая уникальность местных культур, их вклад и важность для универсальной цивилизации.
В фашизме, как и в демократическо-либеральных обществах, перед активизмом ставится теоретическая и идеологическая установка членов сообщества. Вот почему они обвиняют друг друга в идеологических установках. С тех пор, как открытие психологии потрясло миф о рационализме, столь важный для классического либерализма, каждая система признает силу иррационализма в социальной жизни и стремится управлять ею. В обоих случаях ищется современность, борясь с ее вырожденными версиями, т.е. друг с другом. Оба основаны на среднем классе. Идеализм, лежащий в основе социальной активности – гражданской или национальной – также противоречит правовому подходу, направленному на захват или закрытие общества в неизменном правовом порядке. Возможно, эти сходства делают фашизм и либеральную демократию врагами друг для друга и видят друг в друге зло.
Что отличает фашизм? Что делает его соперником и угрозой либеральной демократии? Итальянский историк Эмилио Джентиле Начало фашистской идеологии Книга, в которой отмечены перечисленные черты фашистской системы, не о чистом негативе: антидемократизме, антипарламентизме, антилиберализме. В конце концов, это была мечта, чтобы все были включены в движение и столкнулись в нем, чтобы включить всех членов сообщества - следовательно, это включало и синдикалистов и капиталистов, модернистов и антимодернистов, революционеров и реакционеров, а также всех, кто отказался от несовместимых идей, таких как коммунизм или либерализм, против которых фашистское движение использовало физическое насилие в начальный период. В либеральных демократиях партии и правители также хотят включить как можно больше социальных групп, чтобы найти свое место в государстве. В противном случае они вынуждены использовать насилие против них, хотя и не физически, в качестве политического средства.
Однако в случае с фашистским движением или партией такая идейно-социальная палитра порождала внутренние конфликты и, следовательно, неуверенность членов, к чему они принадлежали, куда шли, было ли это хорошим или плохим направлением. Именно поэтому человеку нужно было судить и ориентироваться на личность. Отсюда культ личности, выдерживающий неопределенность, но и фактически антидемократический, отождествляющий волю вождя и его окружения с волей народа. И все же массовые партии в либеральных демократиях часто содержат людей с очень разными взглядами, разные позиции и лидеров, играющих сходную роль, хотя и стараются заботиться и проявлять внутрипартийную демократию. Часто субъекты, формирующие правительство, также представляют широкий спектр идей, и человек во главе должен примириться и задать направления. Он также хочет представлять народ — всех граждан или всю нацию, а не избранную часть. Либеральная демократия, однако, должна подчеркивать силу многообразия, отношение к меньшинствам и их поддержку — тех, кто не вписывается в фашистскую систему и ее культуру. Однако это означает действовать на мышление граждан, которые руководствуются принципами представительности, доступности и закрепления, одновременно обеспечивая корм для врагов либеральной демократии.
Они часто оказываются в невыгодном положении, те, против кого не применяются равные демократическо-либеральные принципы. Крайне важно отличать борьбу за признание тех, кто признает себя неравноправными, особенно потому, что они независимы от своей воли, и в лучшем случае потому, что они ограничены ею, например, для поддержки желания соответствовать социальным ожиданиям, от борьбы за признание тех, кто считает себя представителями целого или даже большинства и кто признает тиранию большинства, и, следовательно, насилие как политический инструмент. Один амбар в этом может появиться по двум причинам. Во-первых, когда ценности либеральной демократии разделяются большинством и борются с ее враждебными организациями — меньшинством, которое считает себя неравноправным из-за того, как они думают, даже если это связано с эмоциями, и имеет набор ценностей, который не является результатом аморальной воли, но к которому они пришли разумно, и, следовательно, также с помощью эмоциональной обусловленности мышления. Это будет своего рода тирания большинства, хотя и не фашистская. Во-вторых, проблема насилия. Правда, либеральная демократия, как мы ее понимали с 1970-х годов. В 20-м веке она отказалась от физического насилия как политического инструмента, но на пути к своей нынешней форме она применила революционное насилие - как представил Джорджо Агамбен, пишущий о границах насилия - будь то во время Французской революции или в борьбе за социальные права. Таким образом, ее враги могут опровергнуть лицемерие, с помощью которого она хочет отобрать определенные инструменты у своих врагов. По этой причине ищут и мирные демократическо-либеральные революции, примером которых может служить Польша.
Выбирая между продолжением движения, основанного на насилии, и созданием партии, желая войти в парламент, Муссолини выбрал второй вариант. Парламентаризм, однако, широко критиковался с начала 20-го века за его разговоры и неубедительность бесконечных дискуссий, приносящих больше путаницы, чем те, которые помогают принимать решения. И, в конце концов, именно дебаты и вера в них имеют смысл для парламентаризма. Вот почему республиканизм дает надежду на лучшее решение. В случае с либерализмом признается, что, сталкиваясь с различными взглядами, можно сделать рациональный, единственно возможный и правильный выбор. С упадком веры в эти мифы парламентаризм начал терять своё значение. Даже в современных либеральных демократиях на исполнительную власть ложится большая нагрузка, что приближает ее к фашистской модели. Дискуссии проходят внутри массовых партий, и аргументы зачастую менее важны, чем распределение сил. В лучших случаях это обсуждается в парламентских комитетах с экспертами, активистами или группами давления. Реального общественного обсуждения тоже нет. Из-за слишком большого многообразия граждан — их предпочтений, ошибок мышления, индивидуального или коллективного опыта — его трудно вести, и он чаще сводится к пробуждению или подавлению эмоций, что далеко от идеалов парламентаризма, основанных на совершенно иных предположениях, чем фашизм, который охотно искал этот метод.
Таким образом, антилиберализм остается отрицательным отличием. Отождествляется с индивидуализмом и эгоизмом. Они должны нести ответственность за вырождение современных обществ, их слабость. Либеральная демократия также не ставит индивидуализм и эгоизм на свое место. арка. Он их признает, уважает, а некоторые их проявления только терпит. Она также видит угрозу для себя — будь то из-за распада сообщества, которое является демократическим либеральным обществом и в котором оно нуждается, или из-за их возможного чрезмерного роста и господства, что, в свою очередь, может привести к победе фашизма. Индивидуализм и эгоизм – да, но здоровое поведение, связанное с любовью к себе, самоуважением, самоуважением. филаутия Индивидуализм, который объединяется и проявляется также в сообществе, действии и деятельности на благо других и других. Для фашизма единственным здоровым эгоизмом является национальный эгоизм. Человек должен посвятить себя национальному сообществу, культуре нации, тем самым наращивая свою власть и мощь государства. Сдавайтесь ему через дисциплину. Но разве либерализм не предполагает, что работающие люди, руководствуясь либеральными ценностями, не будут служить обществу таким образом, не увеличат свою силу, а значит, и сообщество, частью которого они являются, даже если они не хотят принадлежать к нему? В либеральных принципах важна и дисциплина — она отвечает за капиталистический этос, — но сначала для того, чтобы увеличить свое счастье, и только в результате, как бы случайно, общинное счастье. Опять же, разница очень сдержанная, поэтому ее можно не заметить или легко спутать с неинструментальными людьми.
Фашизм также имеет отвращение к гедонизму. Вместо этого он делает ставку на героизм. В то время как либерализм не имеет ничего против героизма – он может даже любить его и поощрять его, если это выбор отдельного человека, и в либеральных демократиях его следует продвигать, когда речь идет о борьбе с вредом, хотя он также должен заботиться о своей безопасности и счастье – его готовность сделать это является ключевым элементом в человеческой жизни и воспитании в фашистском обществе. Фашистская модернизация происходит путем навязывания индивидам того, что они должны думать, и, таким образом, путем отрицания свободы, возможности экспериментирования. Человек должен отказаться от стремления к индивидуальному счастью во имя примата нации и коллективного счастья, выраженного во власти государства, исполняющего волю власти национального сообщества. Индивидуальное счастье, с другой стороны, высоко в иерархии ценности либеральной демократии. Это определенно хорошо. Что касается гедонизма и последующих удовольствий, то и в либеральной демократии некоторые его проявления не приветствуются, например, слишком далеко идущий потребительство, но здоровый уровень его способствует максимизации счастья, и индивидов, и общество считается, и даже считается необходимым, даже по экономическим причинам. Подход к индивидуальному счастью, его понимание, может быть самым очевидным отличием, если не от того, что оно часто сочетает свое собственное счастье со счастьем других, или, по крайней мере, способность преследовать его. По этой причине можно спутать, что то, что определяется как счастье сообщества, также является счастьем человека.
Борьба со страданиями
Капитализм — общество или капиталистическое государство — тоже имеет свое добро и зло. Он определяет их как способствующие или замедляющие экономический рост предприятия, государства, мира. Это включает в себя награды, печали или даже страдания — материальные, физические или психологические — но никто намеренно не хочет лишать людей жизни, как это было в случае с коммунизмом или фашизмом. Если в результате функционирования этой системы уже наступила смерть, то она была непроизвольной, из-за равнодушия, безразличия, страха запуска процессов, которые замедлили бы или разрушили экономический рост. Переутомление, вредные условия труда нередко сказываются на здоровье работников, их психическом здоровье, удовлетворенности жизнью, уровне человеческого счастья и его непосредственном окружении. Это часто переводилось естественными законами или исторической необходимостью. «Это должно быть так», «это всегда было так», «это естественный ход вещей» — это можно было бы услышать как универсальное объяснение трудного положения людей, формы насилия, которое они испытывали во имя индивидуальной производительности, завода или рабочего места (те, которые не приносили добавленной стоимости, поскольку бюрократия расширялась за пределы потребностей, рассматривалась не только как ненужная, но и вредная, а ее работники как разгрузчики), производительности в стране и даже мировой экономики. Естественно, что есть те, кто не справляется и не о чем беспокоиться, потому что это только вредит тем, кто это делает. В центре внимания должны быть те, кто привлекает экономику – предприниматели, эффективные работники, производители процветания. Приумножая их богатство, богатство нации умножается, и это в конечном итоге перетекает ко всем ее членам, проповедовавшимся с 1970-х годов на Западе.
Тогда все руки на палубе. Необходимо пожертвовать собой, чтобы заработать деньги, или сделать общество богаче, даже если это не результат этого счастья, или даже печали, которые в конечном итоге не оказываются путем к счастью. Но такой этап на пути к всеобщему процветанию надо пройти. «Тот, кто потерпел неудачу, жил в то время, когда нация или мир недостаточно богаты, чтобы получить кусок пирога для него, они должны полагаться на благотворительность, а не на государственное, системное, бюрократическое решение» — в смысле их собственного гуманизма они проповедовали тем, для кого капитализм также был его мерой. Они не замечали этого, пока не создали достаточно сильную экономику, в которой люди чувствовали бы себя достаточно уверенно, чтобы их не особенно беспокоила их судьба. В капиталистическом обществе растут индивидуалистические тенденции удовлетворения собственных потребностей и счастья, не связанные со счастьем других, а не благотворительность.
Таким образом, либеральная демократия поставила еще один, более широкий критерий добра и зла. Зло — это все страдания, которых можно избежать. Она должна быть исключена из общества. Неприятности, если они являются результатом решения человека, которые являются этапами для увеличения или даже максимизации его счастья, приемлемы. Однако, если согласие заинтересованного лица отсутствует, оно также неприемлемо. Такие рассуждения подвержены утилитаризму либеральной демократии. Это заняло больше времени, чем фашизм или нацизм. До тех пор, пока коммунизм. Его нынешние основные направления были сформированы с 1970-х годов. Она прошла через разные периоды. Лучше и хуже, победившие и те, где она проиграла. Она также сменила акценты — важность избирательных прав, верховенства закона, свободы, равенства, признания. Последний переход касается процветания. После Второй мировой войны произошел переход от государства всеобщего благосостояния к капиталистическому государству, а в последнее время и от государства всеобщего благосостояния к государству всеобщего благосостояния.
По этой причине критерий зла в либеральной демократии стал способствовать страданиям других и позволяет им делать это. Если не прямо, то косвенно. Если вы этого не сделаете, вы ничего не сделаете, чтобы предотвратить это. Вот. суперэго Либеральная демократия сегодня. И как таковая она отвергается теми, для кого это слишком высокие моральные требования, которые думают, что люди не в состоянии их удовлетворить. Или для тех, кто чувствует себя слишком сдержанным, ибо невозможно исполнить его волю власти, для тех, кто не видит других возможностей ее исполнения. Из этого может возникнуть чувствительность, желание разрушить такую либеральную демократию. Позор тем, кто — будь то с уровня эмоций или разума — принял это. аркаОни укоренились в ней суперэго и руководствуются ею, признавая силу и способность реализовать в ней свои индивидуальные воли власти. Даже если противники или враги видят в этом признаки слабости и упадка, невозможности доминировать, в том числе и разрушения. Если таких критиков много, то они являются серьезной социальной силой в данный момент, это показывает, что они правы. Однако, когда число критически настроенных индивидов уменьшается и теряет смысл, воля издателей и представителей либеральной демократии, представляющих собой широкую, разнородную группу, сообщество сообществ, воспринимающих и описывающих мир, использующих разные языки-миры, для которых существуют разные эмоциональные переживания, часто противоречивые, формирующие их образ мышления и мышления, передается их членам, как добровольно, так и по рождению, по судьбе или случайно.
Принадлежность к демократическо-либеральному сообществу – помимо стремления устранить возможное страдание (согласно их суждению) к устранению – означает также и обмен другими специфическими для него идеями: 1. всеобщее признание (даже если оно и окончилось в порядке любви – от молчаливой терпимости улыбкой, добротой или мелкими жестами к духовно-телесному единству); 2. свобода (осознавая, что она разделена, без возможности реализовать свою полноту, проявленную в экспериментировании, без уверенности, принесет ли она удовольствие или неприятность); и 3. стремление к счастью (что проявляется не только в реализации воли власти, по-разному направленной, но и связанной с прекрасными, гедонистическими удовольствиями). Все три являются относительными, что вносит некоторую путаницу и приводит к неопределенности, заставляя постоянно думать, переосмысливать их, делая их теоретически.
В либеральной демократии неопределенность является очевидным условием человека и общества. Ты узнаешь ее, ты не пытаешься ее уничтожить. Существует достаточно методов лечения, чтобы контролировать природу, насколько это возможно на данный момент. Признавая неопределённость неизбежностью и элементом человеческого состояния, необходимо учитывать возможность совершения ошибок. Даже в ситуациях, когда свобода сознательно осуществляется путем экспериментов. Дело не в восхищении ошибками. Особенно о том, чтобы выстроить на них целую политику, но учитывать их при ее создании. Со времен Гоббса государство приняло задачу уменьшения неопределенности. В либеральной демократии это означает, прежде всего, минимизацию страданий и вреда людей, а также животных и нанесение вреда природе. Конечно, страдания и вред, которых можно избежать, зависят от воли человека, даже если она произвольная, капризная, загадочная, неизведанная и непроницаемая. Это воля строителей либеральной демократии, которые ее сформировали. суперэгоКто и кто ее назначил аркаНе обязательно с полным осознанием, руководствуясь собственными ошибками мышления, эмоций, переживаний, используя определенные языки-миры.
Трагизм трагизма жизни
Что могут означать их понятия на практике, мы видели трафик. Какие дилеммы связаны с таким подходом, на чем основаны предположения, какие утилитарные вычисления он содержит, и какие возможные ошибки могут быть сделаны, какие шумы необходимо измерить. Кроме того, этические дилеммы, такие как обратная дилемма (см.Проблема троллейбуса) когда человек сталкивается с необходимостью выбора между двумя плохими решениями - иногда имеющими большую, иногда меньшую информацию, один текущий, другой устаревший, другой потенциал. И все же это всегда играет большую роль в нестабильной ситуации, без единого, явно хорошего решения, которое также зависит от предпочтений личности или конкретной культуры.
В либеральных демократиях такие ситуации были бы наиболее желательными. Ибо он имеет дело с ними хуже, чем с фашизмом или коммунизмом. В их случае часто стоит правильно назвать ситуацию, в том числе и в модели. Это позволяет легко ответить, что делать, что осуждать. Ответ всегда заключается в определенном видении общества. В случае демократическо-либерального мышления, ориентированного на каждого конкретного человека и его неправильную дилемму, ее труднее решить. Утилитарные расчеты становятся еще более потрепанными. Проблема в том, что, согласно суждению, даже неправильному, страдания нельзя избежать или исключить в будущем. В котором есть не только простой ответ, но и очевидный и определенный результат расчета. Они усугубляют неопределенность, они являются элементом трагедии жизни, требующей от каждого человека осуждения — морального, описанного Арендтом, и политического, представленного Берлином. Суждение, основанное на шатких основаниях и не осознание этого, может дать вам уверенность.
В либеральной демократии трагические ситуации принимаются неохотно. Она предпочитает молчать о них, возможно, из-за своей беспомощности в ключевых вопросах. Или, может быть, потому, что трагизм охотно используется против него своими противниками и врагами, хвастаясь этим измерением жизни и представляя себя знакомым решением каждой сложной проблемы. Они представляют собой тех, кто может устранить неопределенность и непредсказуемость, а также ошибки в жизни людей и общества. Они с удовольствием представят готовые - сделанные им рецепты. Однако в демократических и либеральных обществах жизнь в таких условиях лучше приручать, учить, как в них двигаться, выстраивать сопротивление им и их принятие. Показать, что счастье и удовольствие также могут быть достигнуты в условиях неопределенности.
Одним из элементов неопределённости, но также и трагедией жизни, является то, что люди движутся в терминах добра и зла, распознают их и чётко различают, хотя понимают по-разному, воспринимают, представляют. Они не чувствуют себя не только выродившимися, исповедующими определенные ценности, но и видят себя нравственными сущностями. Более того, по этой причине у них есть чувство законности, превосходства и власти. Вот почему им часто так трудно увидеть вред, причиненный им. Даже если они видят это, они признают, что это сделано с хорошей целью, по правильной причине. Ведь в общем мышлении добро не может привести к злу. Добро может производить только добро. Это лозунги или предположения, с которыми часто можно столкнуться, но которые не учитывают особого понимания добра и зла, либо принимают их как очевидные, единственно верные, понятные сами по себе, либо не продумывают их до конца и не черпают из этого последствий. Даже если судить о добре и зле не по намерениям, а по результатам, нам придется обнаружить, что добро и зло опасно переплетены. Хорошие меры не гарантируют хороших результатов и не противодействуют злу. Иногда хорошие результаты требуют действий, которые не являются хорошими. Это ситуация, уже описанная Макиавелли, который видел, что хорошее с христианской точки зрения не всегда приводит к хорошему политическому сообществу и наоборот — то, что хорошее политически с религиозной точки зрения может показаться аморальным. Это пример конфликта между различными сферами, в которых добро понимается иначе. И поскольку они проникают, оба могут быть важны для конкретного человека, они могут оказаться в трагической ситуации, например, гражданином-христианином или христианским политиком. Но также и в религии или политике существует конфликт ценностей, в котором одно добро приносится в жертву во имя другого, способствуя некоторому злу. В политике это может быть выбор между благом индивида и общества, особенно в системах мышления, где человек всегда может быть принесен в жертву во имя общего, большего дела.
Другим случаем совершения или применения себя ко злу является сознательное отречение от мышления и связанная с ним способность судить, как это представил Арендт, описывая банальность зла. Они хотят быть просто винтиком в хорошо функционирующем более крупном механизме, особенно самоутверждающемся и получающем монополию на насилие. Дайте себе - свое время, свои способности, в том числе мыслить в определенной, узкой области - с этой целью и ищите в ней лучшее место для себя. Также можно отрицать изгиб суждения из-за чрезмерной неопределенности ситуации, ее сложности, возникающих вокруг нее шумов. Иногда, однако, можно увидеть молчаливое предположение и, возможно, также ожидание того, что его выражение не всегда является лучшим способом действия, особенно когда оно приводит или может привести к тому, что считается неправильным, и что лучше отказаться от суждения, от силы суждения. Что бы ни вынуждало нас использовать их, это определение того, требует ли данный случай, явление или ситуация нашего суждения и выражения. Принимая решение о том, судить или нет, а также осуждая, мы подвергаемся ошибкам мышления. Они хороши, чтобы быть их и их способность быть сознательными, потому что они могут привести к злу, и поэтому они могут быть хорошими для них в всегда неустойчивых и неопределенных расчетах. Однако наряду с теми, кто не видит не только ошибки своего мышления, но и способности уступить им, есть и те, кто боится ошибиться именно для того, чтобы не навредить им.
Все эти случаи показывают трагедию жизни. Чтобы справиться с неопределённостью, нужно её увеличивать, а не искусственно выравнивать. Ее отстранение служило обвинению зла в невежестве, умственной лени, глупости, суевериях, предрассудках, догмах, а также в интересных ошибках и плохой воле. Этот расчет причин зла часто разделяют люди, которые по-разному понимают правильное и неправильное, поэтому, хотя они и соглашаются, что несут за это ответственность, например, глупость, они видят это и обвиняют друг друга в этом. Поэтому Исайя Берлин, который жадно критиковал литанию, посчитал ее ошибочным диагнозом или, по крайней мере, недостаточным. Джон Грей в игре За пределами правого Он отметил: «Политическая жизнь не является проектом по улучшению мира, в который вкладываются трансцендентные надежды неверующего века. Скорее, это почти отчаянно скромная задача бесконечной импровизации, в которой одно добро приносится в жертву во имя других, баланс ищется в разгар неизбежного зла человеческой жизни, и постоянно существующая перспектива катастрофы смещается на следующий день». И даже не меняется, что иногда для выполнения этой скромной задачи нужно пробуждать большие надежды. Надежда на добро, даже не обязательно очень точно определенная, но не обязательно на великое благо. Потому что зло всегда делает. Она может проявить себя, даже если считается, что она делает добро, будь то в соответствии со своим собственным суждением или принимая точку зрения той или иной общины, к которой она принадлежит, в которой человек живет, к которой он стремится. Это также может быть результатом реакции других людей на наш подход и действия, которые мы считаем хорошими и распространяющими добро. В обоих случаях ошибки мышления, эмоциональная привязанность, предпочтения личности, а также языки-миры, в которых человек или группа, в которой он оказывается, признает себя своим, позволяют понять окружающую реальность, уменьшая неопределенность, но что может привести к непониманию или непониманию, бессознательному или сознательному.