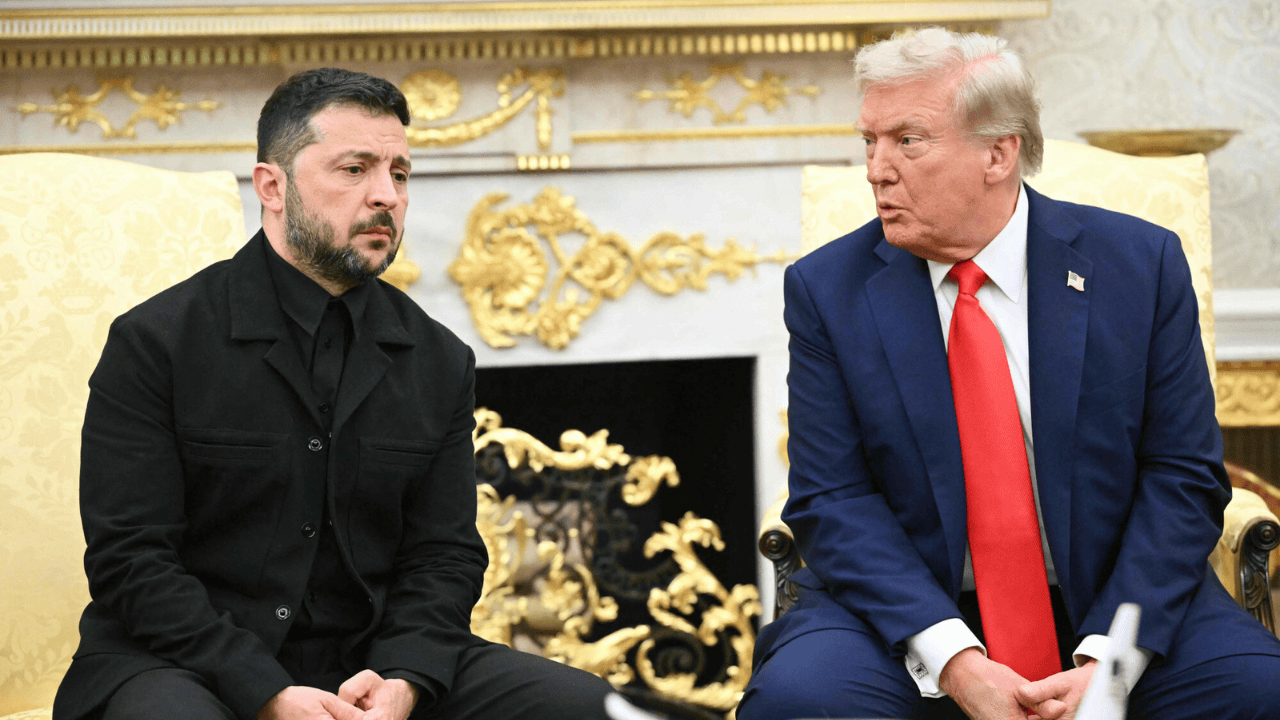Что такое антисистема
В двух своих предыдущих статьях, опубликованных на портале Conservatives.pl, автор описал, что такое глобальная Демолиберальная система.[1]. Теперь он попытается ответить на вопрос, какой должна быть Антисистема и как она должна действовать в нынешней политической ситуации в Польше. Автор напоминает, что под термином «система» он понимает все элементы, состоящие из демолиберизма и отношений между этими элементами. Антисистема, с другой стороны, является широко известным конгломератом различных политических сил, ставящих под сомнение демократический порядок. Антисистема включает в себя все те течения, которые отвергают либеральную политическую систему, либеральную экономику, либеральную международную политику и либеральную модель общественных отношений. Следует ясно дать понять, что Антисистема состоит только из тех сил, которые ставят под сомнение все либеральные решения в этих областях, а не только некоторые из них.
Например, партия Адриана Зандберга «Вместе» не является, безусловно, антисистемной силой в области экономики. Противоположностью либерализма в экономике является классический социализм, выступающий за совместное владение средствами производства. С другой стороны, партия «Вместе» принимает основные принципы либеральной экономики. Она выступает не за национализацию средств производства, а за перераспределение национального дохода и субсидирование слоев меньшего потребления (хотя и не обязательно инвалидов). Партия Зандберга требует лишь некоторой коррекции либерального экономического порядка, а не его полного свержения. Его следует классифицировать не как антисистему, а как типичную западноевропейскую социал-демократию.
Право и справедливость (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским не является антисистемой, несмотря на отказ от некоторых элементов либеральной политической системы. Не все политические силы, выступающие за ограничение роли парламента и политических партий, являются антилиберальными. Многие политологи (в том числе связанные с Антисистемой) выделяются на правой стороне линии, известной как «бонапартизм» (или «плебисцитаризм»). Бонапартизм принимает основные положения демолиберальной системы. Он требует лишь переделать эту систему с парламентской партии на главную. Главная система не означает отказа от демократии. Суверен узаконивает свою власть, обращаясь непосредственно к народу (через референдумы, плебисциты, массовые митинги и т.д.) с бездействием парламента и политических партий. Сам Наполеон Бонапарт считался отцом этого потока, зачисляемого в историю, в том числе и потому, что первым применил референдум.
Наиболее важными представителями бонапартизма являются такие политики, как Наполеон Бонапарт и Шарль де Голль во Франции и Юзеф Пилсудский в Польше. Сегодня французское национальное единство (Rassemblemet national) во главе с Марин Ле Пен или «Право и справедливость» (PiS) в Польше должно быть включено в бонапартистский тренд. Следует отметить, что политики ПиС считают себя продолжающими политический путь маршала Пилсудского.
С другой стороны, ставится под сомнение антисистемный характер популистских правых, которые сейчас начинают получать все большую поддержку в Западной Европе. Право-народные движения часто рассматриваются как угроза либеральной системе. На самом деле трудно определить, находятся ли они еще в бонапартии или уже в Антисистеме. Автор считает, что каждое из этих движений следует рассматривать отдельно.
Некоторые правопопулистские движения выражают согласие с системой либеральной демократии. Упомянутое национальное единство Марин Ле Пен может быть хорошим примером. Эта партия не стремится изменить систему с либеральной на нелиберальную. Он просто требует исправления. В рамках, определяемых демолиберализмом, она хочет перейти от парламентской и партийной демократии к более основному (бонапартизм, плебисцитизм, цезаризм).
Но правые популисты также включают больше антилиберальных движений, которые можно охарактеризовать как антисистемные. Хотя лидеры этих движений прямо не провозглашают антилиберальные взгляды, они являются общими и четко выражены среди его частных членов и сочувствующих. Это наиболее очевидно в Альтернативе для Германии, AfD. Хотя руководство АдГ не призывает к свержению либеральной демократии в Германии, многие члены и сторонники этой партии и связанные с ней интернет-блогеры полностью отвергают либерализм. Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на содержание, выраженное на манифестациях АдГ или прочитать порталы, которые ведут правые блогеры. Они часто ссылаются, например, на Юлия Эволу или революционное право с межвоенного периода.
Автор считает, что антисистемными движениями следует считать прежде всего те, которые отвергают либеральную политическую систему (парламентаризм, три разделения властей, легитимность власти, идущей от циклически повторяющихся демократических выборов, партийная система и т.д.). Именно системные вопросы являются решающими для Антисистемы. Принятие нелиберальной политической системы влияет на нелиберальную экономическую систему, внешнюю политику, социальные отношения и т.д. Антисистема состоит из многих противоречивых течений с различными взглядами на экономику (например, коммунистические и либертарианские мейнстримы), внешнюю политику (например, ориентированные на Россию среды и сторонники радикального ислама) или социальную жизнь (радикальные националисты и анархисты, выступающие против самого государственного института). Общим знаменателем всех этих течений является противодействие делиберальной политической системе государства.
Либерализм без демократии
Следует отметить, что генезис самого либерализма недемократичен. Она включает в себя правление просвещенных абсолютных монархий в 18 веке. Еще до начала волны демократических революций в 1789 году такие правители, как Фридрих II в Пруссии, Петр I и Екатерина II в России и Иосиф II в Австрии провели ряд либеральных реформ в своих странах. Эти монархи использовали абсолютную власть для распространения либерального мировоззрения, проведения либеральных экономических реформ и борьбы с невежеством и религиозными суевериями народа.
Либерализм может быть связан не только с монархией, но и с диктатурой. Примером этого второго явления является Чили во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Другой (менее известный) пример — Перу. В 1990 году президентом стал Альберто Фухимори. В 1994 году совершил государственный переворот (так называемый автоголп), приостановил конституционные свободы и приписал себя диктаторским полномочиям. Затем он провел радикальные рыночные реформы в духе либерализма. На самом деле диктатор Фухимори имел не полную власть в Перу, а спецслужбы во главе с Владимиром Монтесиносом. Уже в конце 1980-х годов они разработали жестокий план Верде, направленный на депопуляцию беднейших слоев. Была проведена принудительная стерилизация коренных народов Перу, преступников и населения, симпатизирующего левым коммунистическим партизанам. Фухимори оставался у власти до 2000 года. Этот период на практике был скрытой диктатурой спецслужб и великим финансистом.
Есть также либеральные государства, в которых демократические механизмы не функционируют в полной мере. Например, в Японии 70 лет правила одна либерально-демократическая партия.
Также в Польше есть представители либерализма, которые не являются сторонниками демократии. Например, Януш Корвин-Микке также является монархом и сторонником радикальных либеральных реформ в экономике. Он утверждает, что такие реформы наиболее эффективно могут проводиться в монархической или диктаторской системе, а не в демократической.
В конце 1980-х и 1990-х годов в Польше было письмо под названием «Станчик», в котором, среди прочего, говорилось о концепции Мирослава Дзельского, который считал, что генерал Войцех Ярузельский должен, действуя как диктатор в Польше, провести аналогичные экономические реформы Пиночету в Чили. Это была абсолютно реальная концепция. Трейлер либеральных изменений в экономике был проведен в дополнение к реформам Мечислава Вильчека, поддержанного Ярузельским, а затем Мечиславом Раковским. Теперь мы также знаем, что Ярузельский встретился с финансовой элитой западного мира (включая семью Рокфеллеров) в Нью-Йорке и принял инструкции по внедрению либеральной экономики в Польше.
Приведенный выше пример Перу периода правления Фухимори показывает, что либеральный режим основан не столько на правлении демократического большинства, сколько на правительствах финансовой элиты. Самые богатые слои, населяющие большие города, наиболее оторваны от сообщества, из которого они происходят, и наиболее склонны поддерживать либерализм. Либерализм - это мировоззрение людей, получивших образование в городе и работающих в глобальных корпорациях. Такие люди чаще всего поддерживают парламентскую демократию, партийную систему, три прилагательных выборы, ротацию внутри правящей элиты, гуманитарную мораль и т.д. Они, как правило, намного богаче, чем большинство населения.
Демократические выборы, парламент, политические партии призваны обеспечить власть богатых больших городов. В то время, когда происходит сильный экономический кризис, который ощущает большинство населения, народ начинает бунтовать против элиты, периферии поднимаются против центра. Затем напуганная либеральная элита требует временной приостановки демократических механизмов, поскольку она опасается, что некоторые низовые движения могут направить социальное недовольство и демократический путь к отстранению этой элиты от власти. Затем центр вводит диктатуру, которая защищает либерализм и начинает преследование периферийного движения и ликвидацию его лидеров.
Примером такого подавления восстания против элиты в Польше стало устранение самообороны Анджея Леппера службой тогдашней правящей партии (ныне оппозиционной партии). В качестве предлога для самообороны службы, руководимые Мариушем Каминьским и Мацеем Вонсиком, использовали так называемое «наземное дело». Либеральные СМИ начали кампанию ненависти против партии Леппера. Сам Анджей Леппер погиб при загадочных обстоятельствах в 2011 году. По официальной версии, это было самоубийство. Даже если это правда, кампания ненависти Леппера против него со стороны Системы привела к этому самоубийству.
В Словакии система провела аналогичную кампанию в СМИ против премьер-министра Роберта Фицо, что привело к попытке убить его жизнь. Подобная кампания ненависти в США привела к попытке убить Дональда Трампа. Как и в случае со смертью Леппера, у нас нет достаточных оснований полагать, что за убийствами Фико и Трампа стояли постоянные службы системы. Однако обе эти атаки являются результатом атаки средств массовой информации, начатой Системой против этих политиков.
У либерализма была лучшая эра в первой половине 19-го века, когда еще не было универсального избирательного закона. Большинство стран начали внедрять партийные системы и всеобщее избирательное право во второй половине 19 века. Исключение составляет Великобритания, где партийная система существует с середины XVII века. Женщины, с другой стороны, только начали получать избирательные права в конце 19-го века. В некоторых либеральных странах это произошло лишь во второй половине XX века. Интересно, что, по крайней мере, избирательные права женщин предоставляются Швейцарией, которая в настоящее время считается образцовой демократической и либеральной страной.
Распространение демократии в первой половине XX века связано с кризисом либерализма. Произошло это потому, что избирательные права получили социальные слои, которые по своим установкам нелиберальны.
Как видно из приведенных выше примеров, может существовать недемократический либерализм. Однако чаще всего либерализм возникает в сочетании с демократическим строем (разделение властей, парламентаризм, циклически повторяющиеся выборы, возможность обмена правящей партией и т.д.) созданием системы либеральной демократии (демолиберализм).
В либеральной политической философии либеральные диктатуры должны быть временными. В классическом древнем смысле диктатура — это институт, назначаемый на ограниченный период времени для решения политического кризиса в государстве.
Либералы также относятся к либеральным абсолютным монархам. По их мнению, либеральные реформы оправданы только в нелиберальных обществах, таких как Россия и Пруссия. Либеральный абсолютизм считается начальным этапом подготовки данного общества к принятию полного демолеберизма. Сам король Фридрих II называл себя «первым слугой своего народа». "
Си Цзиньпина также называют председателем Коммунистической народной партии Китая. Авторитарная система в Китае будет продолжаться до тех пор, пока там не будет сильного среднего класса. Когда средний класс будет доминировать над большинством населения, Коммунистическая народная партия проведет реформы, которые приведут к постепенному внедрению либеральной демократии.
Другой недемократический фактор, действующий в либеральных режимах, находится за кулисами таких сил, как кладки. Это в наибольшей степени относится к Франции и Великобритании, поскольку масонские ложи там самые сильные. В этих странах проявляется политический плюрализм. Политики разных вариантов встречаются в одних и тех же ложах, где принимаются самые важные решения. Дискуссии в парламенте - это только парсон, за которым скрывается закулисная политика.
Антисистема Калеки Гржегож Браун
Гжегож Браун, безусловно, имеет много недостатков и слабостей. Однако его следует считать антисистемным кандидатом, хотя он представляет собой антисистему слабых и искалеченных. Во-первых, за ним нет реальной политической силы, из-за чего, вероятно, он не будет играть большей роли в польской политике. Согласно опросам, он может рассчитывать примерно на 1,5% поддержки (в пределах статистической погрешности). У Брауна нет последовательной политической доктрины, его мировоззрение представляет собой совокупность содержания, взятого из разных сред.
Кроме того, Гржегож Браун не имеет возможности создать вокруг себя прочное политическое движение и все указывает на то, что его тронет «синдром Корвина-Микке». Упомянутый Януш Корвин-Микке неоднократно выступал на президентских выборах. Он всегда собирал вокруг себя определенный электорат, в основном молодых людей, которые сразу же покидали его и распространялись по политической сцене после выборов. Устойчивое движение корвинистов никогда не возникало и не играло никакой роли в политике. Есть много признаков того, что это будет похоже на электорат Брауна.
Несмотря на эти недостатки, стоит проголосовать за Гржегожа Брауна, ведь благодаря ему польская Антисистема может стать самостоятельной политической силой. Человек Брауна объединяет различные антисистемные течения. В его лагерь входят как ориентированные на Россию коммунисты (эпигоны Польской Народной Республики), так и радикальные националисты, а также кассовые защитники, противники новых технологий, противники вакцинации, противники особого обращения с известным этническим меньшинством и известными религиозными символами и т.д. Даже движение, выступающее за самостоятельное производство продуктов питания (при поддержке автора), выражает поддержку Брауну на своих порталах.
Высылка Брауна из Конфедерации должна оцениваться положительно. Благодаря этому Антисистема отделилась от Системы. До сих пор некоторые антисистемисты голосовали за Конфедерацию, оправдывая это тем, что Браун и Корвин-Микке могут получить некоторое влияние в политике. Автор всегда решительно отвергал эту тактику. Он знал, что Корвин и Браун маргинализированы в Конфедерации и не имеют никакого влияния на деятельность этой группы. Каждый голос, отданный Конфедерации, был голосом, укрепляющим Систему и либеральных карьеристов типа Пшемыслава Виплера, Славомира Менцена и Кшиштоф Босака. Теперь, когда и Корвин, и Браун находятся вне Конфедерации, нет никаких разумных оснований голосовать за это. Мы видим в Конфедерации, что это на самом деле, одна из многих закусок Системы.
Неважно, получит ли Браун 5%, 1,5% или 0,75%. В нынешней ситуации целью Антисистемы является не победа на выборах, а существование.
Величайшей слабостью лагеря Брауна, которая может определять его распад, является отсутствие интеллектуального фона. Автор-рейтинг политолог профессор. Ярослав Томашевич, проанализировавший причины распада самообороны, пришёл к выводу, что этому способствовало слабое идеологическое формирование членов. Лепперскому движению не хватало интеллигенции, не было поддерживающих его идейно-аналитических центров, которые могли бы сформировать идеальное лицо этого движения.
Есть много признаков того, что такая ошибка будет способствовать поражению Брауна. Она также лишена интеллектуальной среды, серьезных аналитических и идеологических центров. Ни одно движение не может долго существовать без своей политической доктрины и идеологии. Только интеллектуалы могут развивать эту доктрину.
В общем, слабость польской политики как раз и есть отсутствие интеллектуального фона. В этом отношении мы должны извлечь закономерности из Соединенных Штатов. Там отдельные ветви власти тесно отделены друг от друга. Члены Конгресса не могут служить в президентской администрации. Поэтому каждый новый президент избирает членов администрации из экспертов и интеллигенции из партии, поддерживающей идейно-аналитические центры. Связанные с ними республиканцы или демократы, интеллектуальные, идеологические и аналитические центры дают партийным элитам возможность переждать период, в течение которого их партия находится в оппозиции. Они занимаются формулированием доктрины, которую партия будет осуществлять, находясь у власти. Предоставление ключевых позиций людям из экспертных и интеллектуальных кругов способствует высокому уровню политики. Важность «спасибо» в политике США — явление, которое следует оценивать положительно.
Такие центры абсолютно не влияют на политику в Польше. Не существует строгого разделения различных ветвей власти. К ключевым политическим позициям относятся не люди из экспертных и интеллектуальных кругов, а в основном члены парламента. Это открывает дорогу партийной карьере, единственным занятием которой является партийная деятельность и значительно снижает уровень политики.
Хотя многие идеологические и аналитические центры (в основном связанные с национальной средой) были созданы в Польше с 2000 года, они по-прежнему слишком слабы, чтобы влиять на политику. Не хватает идеологической прессы, интернет-порталов и идейно-аналитических каналов.
По мнению автора, в этом направлении должен развиваться Антисит. Она должна основываться на интеллектуальной и экспертной среде. Она должна создать аналитические, идеологические и интеллектуальные центры, которые создадут доктрину, идеологию и политическую философию Антисистемы. Эта идеология и доктрина, созданные антисистемными центрами, могут в будущем сформировать некое постоянное антисистемное политическое движение.
Индивидуализм или коммунизм
Многим не нравится индивидуализм Гжегожа Брауна по экономическим вопросам. Это действительно либертарианец, которого все другие экономические модели называют «социализмом». Следует подчеркнуть, что сам Браун определяет себя как католического традиционалиста, что означает, что он также должен быть знаком с философией экономики Сообщества, проповедуемой Католической церковью.
По мнению автора, либертарианство Брауна нельзя полностью отвергнуть. Следует помнить, что либертарианцы — это тоже течение Антисистемы. Они отделились от неолиберализма во время экономического кризиса 2008 года.
Правительства европейских государств оказывали помощь крупным корпорациям, пострадавшим от кризиса. Неолибералы считали, что механизмы государства всеобщего благосостояния необходимы во времена кризиса. С другой стороны, либертарианцы встали на сторону малого бизнеса (производителей и торговцев), который начал падать, в то время как международные корпорации оказались «слишком большими, чтобы падать». "
Автор рассматривает еще более обнадеживающую антисистемную либертарианскую среду, стремящуюся ликвидировать государство всеобщего благосостояния, чем среду, которая хочет его поддерживать (например, на национальном уровне). Экономическая теория Сообщества, как в католическом, так и в социалистическом вариантах, отвергает естественный механизм рыночной конкуренции.
В католической модели все экономические операторы не конкурируют друг с другом, а работают вместе, чтобы создать один организм. Также в социалистической экономике исключен элемент конкуренции. Здесь, в свою очередь, экономические операторы действуют по единому плану, навязанному сверху вниз государством. Между тем, биология учит нас, что каждый вид развивается через законы конкуренции и наследования.
С другой стороны, индивидуализм в экономике включает свободную конкуренцию, но исключает наследование. Только индивид является субъектом. Правда, существуют большие капиталистические семьи (например, Валленберги или Кеннеди), но это явление, созданное несмотря на капиталистический индивидуализм.
Согласно протестантскому видению экономики, которое заложило основу для подъема Соединенных Штатов, и наиболее популярным было в 1-й половине 20-го века, капиталист должен перед смертью распоряжаться всем имуществом, а его дети должны начинать все сначала, потому что протестантизм говорит, что наследование неправильно.
Как видите, и у либертарианской, и у общинной моделей есть и плохие, и хорошие стороны. Автор считает, что лучшим решением было бы объединить обе модели.
Основными субъектами экономической и социальной жизни должны быть не индивиды, а кланы, или большинство естественных сообществ людей, связанных узами верности и родства. За значительную часть истории человечества (включая предков и родственников человека) жили в такой нумерации несколько десятков (максимум 100) членов клана.
К сожалению, вернуться к клановой системе в Европе невозможно. Кланы были разбиты здесь в начале истории. Остались только семьи. Этот клан отличается от родословной тем, что имеет отношение к территории, где проживают все его члены. В случае семьи после смерти патриарха старший сын наследует большую часть имения, а младшие братья должны сами оформить полученные части.
Очевидно, что узы доверия и лояльности могут функционировать только в сообществе людей, которые знают друг друга и связаны. Мы всегда доверяем тем, кто похож на нас, и чувствуем ксенофобию по отношению к незнакомцам. Поэтому семейно-клановая общность — естественная вещь для человека. Узы лояльности и доверия не могут функционировать в многомиллионном сообществе незнакомцев (например, нации или всего человечества).
Укрепление исполнительной власти как путь к антилиберализму
Право и справедливость часто считают партией, которая стремится сверху вниз укрепить исполнительную власть и уменьшить роль парламента, действующего подсознательно в пользу Антисистемы. Автор не разделяет этого мнения, он считает, что ПиС действует как часть либеральной парадигмы, то есть принадлежит к течению, называемому бонапартизмом, а не антистемом. Ранее были описаны различия между другой формой бонапартизма и Антисистемой.
Если партия реформирует государство, опираясь на парадигмы либеральной западной цивилизации (парламентизм, регулярно повторяющиеся выборы, три разделения властей, правительственный контроль со стороны оппозиции и т.д.), то она принадлежит Системе. С другой стороны, если ее действия ведут к разрыву с демолиберализмом и, следовательно, к разрыву с западной цивилизацией, то это антисистема.
В настоящее время в Польше нет политических сил, чтобы порвать с демолиберализмом и выйти за пределы западной цивилизации. Даже Гжегож Браун ссылается на концепцию «латинской цивилизации», которая была лишь ранней стадией развития западной цивилизации.
Нисходящее усиление исполнительной власти в ряде случаев фактически приводит к выходу демолиберизма и строительства в стране Антисистемы. Республика Беларусь – лучший пример. В 1994 году Александр Лукашенко победил на демократических выборах и сразу же изменил конституцию и провел реформы, укрепив должность президента. Реформы Лукашенко зашли так далеко, что привели к разрыву с демолиберальной системой и разрыву с Западом. Нынешняя Беларусь является нелиберальным и антизападным государством, частью Антисистемы.
Другим примером являются страны, граничащие с Системой и Антисистемой, такие как Турция Реджеп Тайип Эрдоган и Венгрия Виктор Орбан. Эрдоган и Орбан — политики, принадлежащие к антилиберальному потоку, но они не решили полностью порвать с западными структурами.
Реджеп Тайип Эрдоган, как и Александр Лукашенко, победил на президентских выборах 2014 года в Турции и, как и он, изменил конституцию, укрепив позиции президента.
С другой стороны, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана часто обвиняют в практике так называемого «путинизма». Он вложил всю власть в свои руки, подчинил себе все СМИ и лишил либеральную оппозицию возможности влиять на общество, хотя и не запретил его полностью. Пока неизвестно, решат ли Турция и Венгрия полностью выйти из системных структур и стать Антисистемой. Такая смена парадигмы была бы возможна в этих странах, если бы война на Украине закончилась победой России.
Если бы Турция смогла овладеть подавляющим большинством Леванта и Магриба вместе с «Братьями-мусульманами», Османская империя была бы восстановлена, и переход к антилиберальной стороне был бы возможен. Венгрия также могла бы осуществить такой переход, если бы российские войска вместо того, чтобы застрять над Доном, достигли Закарпации. В этом случае Венгрия будет граничить непосредственно с восстановленной Российской империей (включая Россию, Украину и Белоруссию), что позволит им переориентировать большую часть своей торговли в Россию и регулировать венгерское меньшинство в Закарпаче.
К сожалению, мы видим, что ситуация на Украине постоянно развивается в ущерб России. С другой стороны, Турция контролирует только Западную Ливию, Иракский Курдистан, Сирию и сектор Газа. Недостаточно восстановить Османскую империю.
С другой стороны, впечатляющий успех «Братьев-мусульман» в Сирии укрепил позиции Турции. Руководство «Братьев-мусульман» даже ввело запрет на полеты израильских самолетов над Сирией и установило там турецкие системы противовоздушной обороны, которые оно намерено использовать. Это дает надежду, что восстановление Османской империи через Турцию и ее переход в антилиберальный лагерь все еще возможен.
Автор также указывает, что не отвергает возможность применения силы в борьбе против Системы. Виктор Орбан пришел к власти в результате уличной революции 2006 года. Польские правые также однажды провозгласили лозунг «Давайте сделаем еще один Будапешт в Варшаве».
Даже если антисистема придет к власти мирным путем, она должна иметь необходимые силы для ее обеспечения. Противостояние с Системой произойдет, хотим мы этого или нет, и мы должны быть готовы к этому противостоянию.
Кроме того, антисистемные движения, которые в какой-то момент выиграли демократические выборы, должны были использовать силу. В Турции в 2016 году была предпринята попытка со стороны поддерживаемых Западом военных кругов. Затем Эрдогану пришлось мобилизовать своих сторонников и слуг для борьбы с противниками.
В свою очередь, в Белоруссии в 2020 году вспыхнула «цветная революция», вдохновленная Западом. Александр Лукашенко также был вынужден силой подавить ее.
Следует помнить, что в политике нет моральных и аморальных методов. Политика — это искусство достижения целей с использованием наиболее эффективных методов в данной ситуации.
Кроме того, вопрос заключается в том, действительно ли Закон и Справедливость стремятся укрепить исполнительную власть, как она заявляет. Во время правления Закона и Справедливости самым важным человеком в государстве был президент партии Ярослав Качиньский, оказавший решающее влияние на действия как президента Анджея Дуды, так и бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Дуда и Моравецкий обладали некоторой автономией, но Качиньский мог в любой момент парализовать их шаги. Подобная тактика «правительств с заднего сиденья» часто встречается у польских правых. Происходит из периода Пилсудчик, а в 3-й Польше его использовал (полностью забытый) Мариан Крзаклевский.
Коаптация или альтернативное строительство
Некоторые антисистемные движения стремятся присоединиться к Системе и, по-видимому, принять основные парадигмы демолиберизма. Примером этого явления является Марин Ле Пен во Франции, а в Польше Роман Гертих и его преемник Кшиштоф Босак. Сторонники этого пути надеются, что, скрывая свою истинную идентичность и притворяясь либералами, им будет позволено вести демолиберальную политику и по крайней мере выполнять те требования, которые могут быть реализованы в демолиберальной системе. Марин Ле Пен вряд ли сможет изменить систему Франции на нелиберальную. С другой стороны, она может переориентировать свою внешнюю политику с Атлантики на более пророссийскую и ужесточить критерии приема.
Автор является противником политического курса, направленного на соприкосновение к Системе. Во-первых, это приводит к отставке около 99% собственных нелиберальных требований. Единственным преимуществом, которое может быть применено путем присоединения к Системе, является выполнение примерно 1% требований третьего уровня. Во-вторых, этот путь предполагает наивное убеждение, что руководящий орган Системы не поймет, что смена данной партии очевидна. Тем временем лица, принимающие решения в Системе, готовятся к тому, что движения, имеющие антилиберальное прошлое, попытаются под измененным названием войти в Систему и попытаться взорвать ее изнутри. Система запечатана, и ее органы, принимающие решения, знают и не позволят никаким партиям или движениям участвовать в политике, которая угрожает демократическому характеру государства. Косметические процедуры, такие как изменение названия партии или изгнание активистов, обремененных антилиберальным прошлым, ничего не делают. Предотвращение Марин Ле Пен на выборах является лучшим примером того, как путь присоединения к Системе заканчивается неудачей и смущением.
Противоположностью коаптации к Системе является создание для нее альтернативы. Это был путь, выбранный Романом Дмовским, действовавшим в неблагоприятных условиях перегородок и позднее режима Пилсудчика. Затем Эндекья создал сеть независимых организаций, издательств, кооперативов и банков, охватывающих всю страну. Это было важно для движения в борьбе за политическую власть. Все эти элементы движения эндеков действовали независимо друг от друга, устранение одного из звеньев в этой сетке не угрожало остальным. Когда царские власти разбили демонстрацию независимости, организованную Дмовским в Варшаве, другие элементы эндековской сетки (например, во Львове или Познани) могли беспрепятственно продолжать действовать.
По мнению автора Антисистемы, в поисках общественной поддержки она должна принять проверенную тактику национальной демократии. Как уже упоминалось, слабейшей стороной Гржегожа Брауна является отсутствие политического фона, как у Дмовского.
Следует отметить, что Браун уже не политический новичок и мог бы создать такие объекты. Он достиг своего пика в то время, когда его окружающая среда выступала против другой блокировки. Браун был тогда вместе с Себастьяном Питонией флагманским персонажем антиковидных протестов. К сожалению, окружение польской короны тогда не смогло проанализировать социальное недовольство и построить постоянную поддержку для себя.
Гжегож Браун может мобилизовать своих сторонников в определенное время, в то время как ему трудно строить постоянные политические структуры. Это типичная польская национальная черта. Мы можем мобилизовать себя временно в особое время, но мы не можем осуществлять систематическую долгосрочную деятельность.
Как должна работать антисистема
Антисистема должна идти по пути, указанному Романом Дмовским, т.е. создавать свои центры, которые обеспечат ему прочное место в политической и общественной жизни. Это могут быть интернет-порталы, релизы или идейно-аналитические центры.
В современных условиях не работают жесткие и иерархические структуры, имевшие фашистские движения в межвоенные времена. Любая такая структура будет легко проникать и разрушаться системой. Поэтому Антисистема должна принимать децентрализованную форму и основываться на небольших группах, действующих самостоятельно.
Ранее автор показал, что первичными индивидами в обществе должны быть естественные социальные группы, такие как семьи и кланы. Антистем должен состоять из небольших групп, связанных личными узами. Эти группы должны состоять из людей, которые хорошо знают друг друга, которые выбрали общий путь и общую цель. Такая группа может состоять из лиц, пишущих на одном портале, управляющих спортивным клубом или аналитическим центром.
Любимый метод действий Гржегожа Брауна — зрелищные политические события. Его наиболее известные действия включают в себя тушение свечей Ханука в парламенте и предотвращение абортов в больнице в Олешнице. Многие отвергают такой стиль, утверждая, что любое нарушение закона является неправильным, и вместо того, чтобы помочь подвергнуться репрессиям со стороны правоохранительных органов.
С другой стороны, автор поддерживает такие методы, как незаконные события и политическое хулиганство, когда данное движение приобретает популярность и симпатию общества. Такие действия, как уничтожение символов известных меньшинств в публичном пространстве, поддерживает большая часть общества, поэтому стоит их принять.
Конечно, те, кто использует такие методы, должны столкнуться с юридическими репрессиями. Все движения, действовавшие в 1980-х и 1990-х годах, организуя незаконные события (например, «майорские» гномы Фидриха, Республиканская лига и т. д.), преследовались службой. Однако, если данное действие имеет общественную поддержку и повторяется циклически, власть должна изгибаться. Примером может служить знаменитый случай поджога радужного символа, стоящего на площади Спасителя в Варшаве. Когда радуга была впервые сожжена, преступники были обнаружены и наказаны, и радуга была восстановлена. Вскоре после этого он был снова сожжен и восстановлен. Когда ситуация повторилась несколько раз, варшавские власти уже ушли из восстановления радуги.
Конечно, такое политическое хулиганство должно иметь свои пределы. Их следует использовать, когда это приносит общественную поддержку. Линия, которую мы не должны сейчас пересекать, — это насилие над людьми. Любое движение насилия в современном либеральном обществе столкнется с социальным осуждением и будет быстро искоренено службой. Абсурдно использовать насилие, когда нет условий для революции. Все правые и левые организации, использующие насилие и терроризм в послевоенной Западной Европе, были социально маргинализированы и разбиты.
Может показаться, что единственным примером, в котором террористы получили общественную поддержку и в конечном итоге преуспели, был конец царской России. Однако это пример не столько эффективности терроризма, сколько неспособности царских служб бороться с революционной угрозой.
Общепризнано, что Царская Россия была страной кровавого деспотизма, жестоко преследующей своих противников. Такие описания встречаются как у советских историков, так и у современных польских историков.
На самом деле, однако, царский аппарат относился к своим противникам очень мягко по сравнению с тем, что происходило потом в Советском Союзе. Часто даже опасные террористы не приговаривались к смертной казни. Их отправляли только в город Сибирь, где они могли создавать семьи и свои произведения (многие произведения известных революционеров создавались на изгнании).
С такой же снисходительностью они обращались с революционерами, павшими монархами в Западной Европе. Часто единственным наказанием была принудительная эмиграция или заключение в какую-нибудь крепость, из которой осужденный уехал через несколько лет.
Большевики в России были успешны главным образом потому, что их поддерживала Германия (Ленин был привезен в Москву на поезде немцами). Во время Октябрьской революции 1917 года и последующей Гражданской войны они получили общественную поддержку главным образом потому, что белогвардейские офицеры были обременены тяжёлым поражением в войне с Германией.
Карская Россия пала не из-за большевистского насилия, а из-за поражения в войне против Германии и потому, что ее аппарат относился к революционерам гораздо мягче, чем в Советском Союзе.
«Марш через институт» или уличная революция
Один из возможных способов привести антисистему к власти — «пройтись по институтам». Эта концепция возникла в то время, когда правые начали читать произведения Антонио Грамши. Речь идет об антисистемном овладении государственными институтами, привлечении в них своих людей и переустройстве государства.
Именно так выбирал Болеслав Пясецкий в межвоенный период и после войны. Перед войной, действуя в условиях враждебного Пилсудчикского режима, Пясецкий ввел свой народ в государственные учреждения, и, используя таким образом овладевшие государственными структурами, попытался совершить переворот в 1937 году.
После войны, действуя в условиях коммунистического режима, он попытался построить общественную поддержку, используя свои публикации и таким образом перепроектировать характер коммунистического государства.
К сожалению, в обоих случаях «Марш институтами» оказался неудачным. С первой попытки власти Постплюджика вовремя поняли, что Пясецкий планирует переворот, и фактически очистили все его учреждения от сторонников Фаланги. После войны правящие коммунисты фактически блокировали действия Пясецкого.
Турция является успешным примером «марки институтов». С 1923 года им управляли кемалисты. В своих предположениях Турция должна была быть либеральным и светским государством. Кемалисты изменили алфавит и запретили женщинам блокировать лица. Армия охраняла этот приказ. В этой ситуации сторонники консервативного ислама должны были действовать как Антисистема. Они создали свои собственные независимые центры, построили общественную поддержку и наполнили учреждения собственным народом. В ситуации, когда консервативный ислам уже достиг достаточного влияния, Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах 2014 года и изменил характер государства с светского на исламский (бывший исламский президент Турции Ишан Сабри Каганьянгил был свергнут армией в 1980 году).
Автор скептически относится к эффективности «Марша институтами». Практика показывает, что в большинстве случаев этот метод заканчивается неудачей. Единственным известным примером ее успеха была Турция.
Более вероятно, что Антисистема придет к власти в результате уличной революции, подобной произошедшей в Венгрии в 2006 году. Социальное недовольство в стране будет настолько высоким, что люди выйдут на улицу протестовать против элиты. Из этих протестов возникнет некое антисистемное движение, которое будет направлять недовольство и свергать правящие элиты. Прорыв произойдет на улице, а победа Антисистемы на демократических выборах только подтвердит это.
Таков был ход революции Евромайдана на Украине в 2014 году. Проведенные там преобразования были, конечно, демлиберальными, но по тому же сценарию антилиберальные изменения в Польше могут быть осуществлены.
Представляет ли Конфедерация голос народа?
Конфедерация — это группа, которая может делать правильные выводы из опросов общественного мнения и пытается проповедовать то, что ее больше всего поддерживает. Долгое время она была единственной польской политической партией, выступавшей против открытия границ для иммигрантов. Таким образом она выражала взгляды значительной части поляков.
Польское общество довольно неохотно относится к либеральным идеям открытости для иммигрантов. Правда, существует значительный интерес к молодым белым женщинам у чернокожих мужчин. Это связано, однако, не с принятием либерального мировоззрения, а с увлечением Запада. Аналогичная причина - братание польских солдат с чернокожими коллегами из армии США.
Как нация, мы все еще испытываем комплекс неполноценности по отношению к Западу. Тем не менее большинство населения по-прежнему нелиберально и негативно относится к иммиграции.
С другой стороны, либеральные элиты поддерживают политику «открытых дверей» для иммигрантов на Западе. Либеральный политический картель, правящий Польшей, основан на принципах непротивления каким-либо тенденциям на Западе. Все партии правящего картеля стремятся ввести в Польше полный демолеберизм и реализовать все идеи, преобладающие в западном мире. Консервативная часть политической элиты поддерживает англосаксонские модели, а либеральная часть Западной Европы с особым акцентом на либеральную Францию (например, умерший в 2008 году Бронислав Геремек был горячим франкофилом, также Рафал Трзасковский считается профранцузской политикой).
Одной из идей между различными фракциями политической элиты была сильная поддержка политики «открытых дверей». Конфедерация первой нарушила табу на иммиграцию. Она выступала против политики «открытых дверей» главным образом потому, что это принесло ей общественную поддержку.
Причины скептицизма Славомира Менцена по отношению к Украине схожи. В Польше до сих пор жива память о преступлениях, совершенных УПА. Конфедерация не является пророссийской группой (Славомир Ментцен сам подчеркивает, что ему не нравится нынешняя политическая система в России, а Кшиштоф Босак всегда презирал русскую цивилизацию). Однако Менцен понимает, что скептическое отношение к сотрудничеству с Украиной может быть отношением, которое окупается в данный момент.
Славомир Ментцен лишь однажды в разговоре с Кшиштофом Становским проповедовал взгляды, которые большинство не поддержало. Затем он выступал за платные исследования и запрет абортов. Постулаты платных исследований проистекают из его либерального мировоззрения, из-за чего Менцен доложил ему, несмотря на то, что большая часть общества выступает против такого решения.
Возможно, он также искренне говорил об абортах. Менцен определяется как «непрактичный католик», поэтому, возможно, в этом вопросе он верен учению Церкви, с которой отождествляет себя. Можно считать, что как президент он не подписал бы ни одного закона, либерализующего доступ к абортам, независимо от того, что показывают опросы.
Может показаться, что Конфедерация проповедует то, что думают обычные люди и чего не хотят добиться либеральные элиты. Однако следует отметить, что Конфедерация провозглашает в обществе популярные взгляды только в том случае, если не подвергает его нападкам со стороны правящего политического картеля. Например, в его программе нет антисемитского содержания, хотя в польском обществе по-прежнему сохраняется антисемитизм. Единственным открыто антисемитским политиком в Польше является Гжегож Браун, который сейчас находится за пределами Конфедерации.
Конфедерация не проповедует антисемитский контент главным образом потому, что это приведет к ее исключению из политических дебатов. По этой же причине эта группа не занимается вопросом смертной казни, хотя большинство населения поддерживает это.
Если бы смертная казнь была восстановлена на референдуме, ее результат был бы положительным. Несмотря на это, ни одна демолиберистская партия с Конфедерацией в том числе не требует повторного введения основного наказания. Именно молчание Конфедерации о смертной казни лучше всего показывает, что эта партия не представляет голос общественности, а намерена делать только то, что не подвергает ее конфликту с либеральной элитой.
Антисистема и президентские выборы
В первом туре выборов вся Антисистема должна поддержать Гржегожа Брауна. Мы не должны беспокоиться о его плохом счете. Как было написано ранее, наша цель — не получить немедленную поддержку, а построить вокруг Гржегожа Брауна постоянные сооружения, на которых могла бы базироваться Антисистема.
Классическая политология предполагает, что политическое движение должно получить около 20% поддержки, чтобы повлиять на форму демократического государства. Однако в некоторых ситуациях эта теория не работает. Примером может служить нынешняя политическая ситуация в Италии. В 1990-х годах там правила коалиция социалистов и коммунистов. Он упал в 2001 году из-за коррупционных скандалов. После падения опальной коалиции из политического небытия возникли новые политические партии, которые сегодня формируют итальянскую политическую систему. Единственным ранее известным представителем был Сильвио Берлускони, который служил скорее медиамагнатом, чем активным политиком.
Другой пример – соседняя Украина. Революционные националисты никогда не преуспевали на демократических выборах. В нынешнем Верном совете есть только несколько членов Правого сектора, большинство из которых — Дмитрий Ярош. Несмотря на это, радикальный национализм приобрел значительное политическое влияние в сложившейся ситуации и является одной из основ, на которых поддерживается «свингенна» Украины.
Второй тур, вероятно, будет включать кандидата от Либерального лагеря Рафала Трзасковского и кандидата от Консервативных правых Карола Навроки (возможно, Славомира Менцена). Польская избирательная система напоминает ту, которая действует во Франции. Многие кандидаты соревнуются в первом туре. Однако во второй тур вступают только кандидат от либералов и кандидат от консервативных правых. Независимо от того, за кого голосуют избиратели, они всегда выбирают систему.
В такой ситуации мы не должны голосовать. В Польше нет избирательных обязательств, как в некоторых странах Западной Европы (например, Великое Герцогство Люксембург). Либеральные ритуалы демократического голосования должны присутствовать только при участии кандидата от Антисистемы. Голосование за Навроки или Менцена будет способствовать укреплению системы.
В странах, где система достаточно сильна, чтобы заставить голосовать одного из своих кандидатов, Antsite должна применять более сложную стратегию. Если бы во втором туре в Польше существовала избирательная обязанность, то лучше было бы проголосовать за Рафала Трзасковского. Это кажется парадоксальным. Тем не менее, захват всей власти PO вызовет гнев общественности. Тогда, возможно, будут массовые протесты и удобная революционная ситуация. Это социальное недовольство может направить Антисистему. Антисистемные революции всегда взрываются, когда люди живут плохо.
Кто победит на выборах 2025 года?
Очень сложно предсказать, кто победит на предстоящих выборах. В своем политическом прогнозе, опубликованном на портале Nationalista.pl, автор написал, что все указывает на победу правого кандидата Кароля Навроки.[2]. В то время казалось, что ситуация 2015 года повторится, когда Бронислав Коморовский и Анджей Дуда боролись за президентство.
В 2015 году при поддержке консервативного правого Анджея Дуды был совершенно неизвестен кандидат и казалось, что шансов у Бронислава Коморовского, заслужившего Систему действовать в либеральной оппозиции периода ПРЛ, не было, а позже долгое время возглавлял Министерство национальной обороны. Однако в то время в обществе царила непримиримая враждебность по отношению к правящему По, особенно Коморовскому, что было видно особенно в интернете. Дуда сумел направить социальное отвращение к ПО и таким образом выиграл выборы.
Сейчас наблюдается аналогичная враждебность общества к либеральному правительству ПО, как во времена Коморовского. Это видно как онлайн, так и на улице. Не будем забывать, что последние парламентские выборы, по сути, выиграли "Право и справедливость". Либералы из По пришли к власти только потому, что ПиС не нашла подходящей коалиции.
Кароль Навроки изначально, как и Дуда в 2015 году, был совершенно неизвестным человеком. Она исходит извне строгой политической элиты и не имеет политического опыта. Рафал Трзасковский, с другой стороны, очень медийный кандидат и присутствует в политических салонах. Однако автор предсказал, что большая часть общества, недовольная правлением ПО, не захочет отдавать этой партии всю полноту власти и поддерживать Навроки, лишь бы не допустить избрания Трзасковского лишь «длинным сценарием» Дональда Туска.
Однако в настоящее время автор не уверен, что ситуация будет развиваться в этом направлении. Все основные опросы показывают снижение поддержки Навроки. В то же время шансы Трзасковского и Менцена в последнее время увеличиваются. Увеличение поддержки Менцена было отмечено как либеральными исследовательскими центрами, так и теми, кто связан с консервативными правыми.
Нельзя предсказать, кто победит на предстоящих выборах. Ситуация в кампании очень динамичная и все может случиться.
Джеймс Игначак
[1] См. Ignaczak J., Global System and Antisystem Combat at Metapolitics level, https://conservativeism.pl/jakub-ignaczak-global-fight-system-and-antistemu-on-level-metapolitics/Игначак Дж., «Глобальная борьба системы и антистемы в политической практике». https://conservatives.pl/global-fight-system-and-antisystem-in-practice-political-transaction-system/Дата доступа: 29.04.201025
[2] Игначак Дж., геополитический и политический прогноз на 2025 год, https://www.nationalista.pl/2025/01/24/jakub-ignaczak-geopolitan-and-politic-on-2025-years/Дата доступа: 26.04.201025