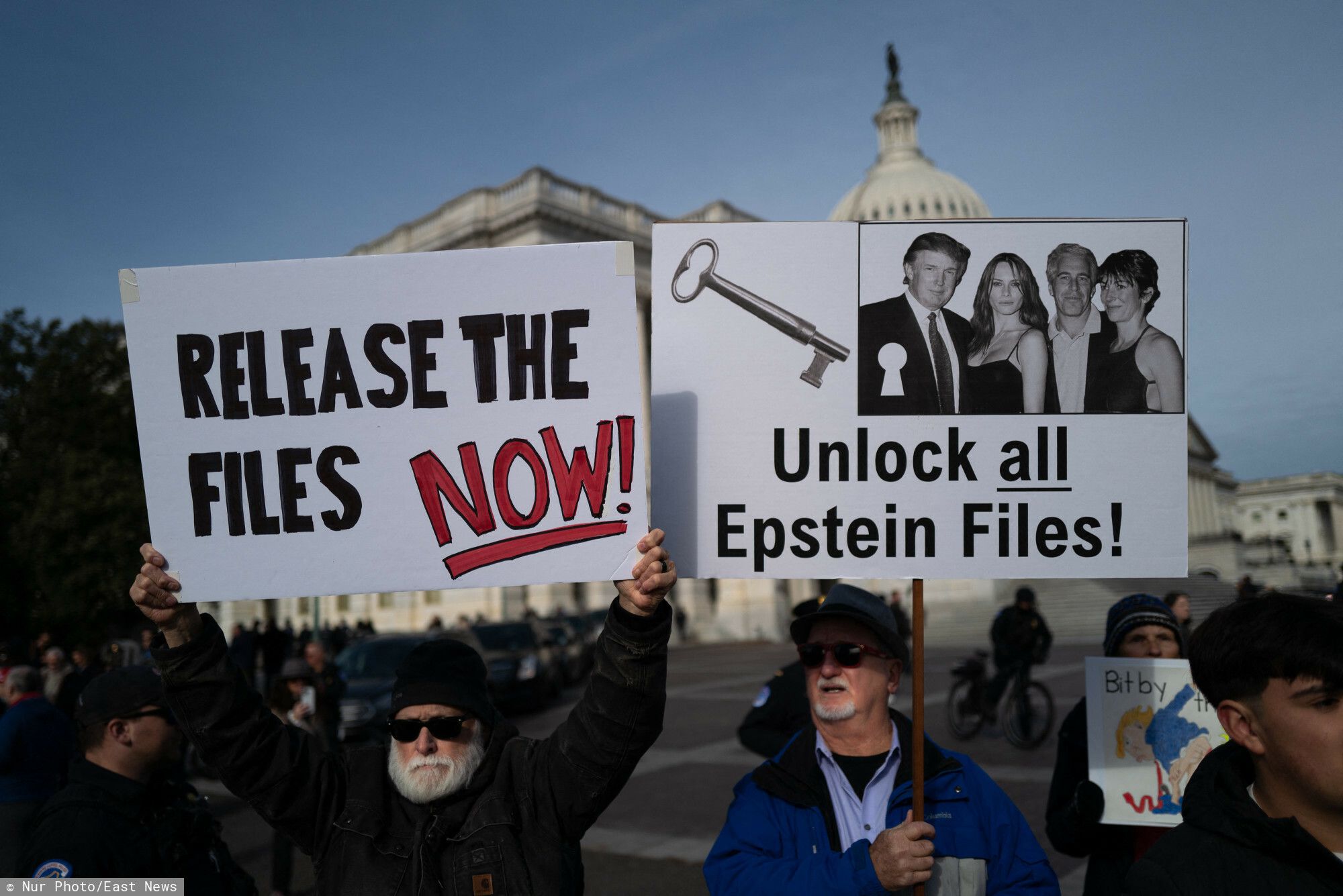Ян Мацеевский в книге «Ничего! Почему история Польши должна повториться? (Краков, 2025) выдвинул смелый, но, к сожалению, верный тезис о том, что наряду с расчленением нас обманули как нацию романтической лжи.
Ложное восприятие нашего места в истории и Европе на протяжении двухсот лет организовывало нас в реальность, вливаясь в проклятый ритуал жертвы: от Сомосьерры, Понятовского в течениях Эльстеры, разгрома Варшавского восстания, до Катыньских смертных ям и Смоленской катастрофы — читаем мы на обложке. Возвращение механизма козла отпущения в современной Европе происходит потому, что христианские символы утратили свою связующую силу, перестали влиять на воображение. Так она вернулась к мифологическим структурам и рефлексам, упразднена, признана недействительной на Голгофе. Вот почему в Первой Республике произошло убийство. И по той же причине поляки стали приносить собственные жертвы на алтаре Родины. Они погибли, чтобы Польша могла существовать. Все это, должно быть, произошло потому, что пространство без жертв невозможно» (т.е. стр. 291). Для того, чтобы понять, что пишет Мацеевский, — с некоторым геополитическим расстройством, — необходимо обратиться к греческой философии, которая первой перешла от мифа к науке. Научное воображение объясняет человеческую деятельность иначе, чем мифологическое.
Платон в «Государстве» уже отмечал, что «совершенство или добродетель (arete), характеризующие данную вещь, делают ее хорошей вещью». В целом, роль души заключается в том, чтобы жить и размышлять о том, какие решения и решения позволяют жить хорошо. Знаком величия души является эффективность медитации, высшая из которых проявляется в том, что человек принимает мудрые решения на протяжении всей своей жизни. Такой человек благословен и счастлив.Эмма Коэн де Лара “The Harmony of the Soul – a classic response to times of crisis”, in “Platon on Wall Street”, Krakow 2010, p. Согласно Платону Сократу, совершенная душа характеризуется особым типом внутреннего порядка. Чувствительная часть души (логос) направляет наиболее ментальную часть похоти (эрос) в жизни – ответственную за удовольствие от питья, еды, секса и т.д., с привлечением гневной или темпераментной части (тумос). «Тумос — это своего рода эмоция, которую можно назвать оправданным гневом или гневом; это часть души, которая наполняет наши действия эмоциями. Такой тип чувствительности можно наблюдать у маленьких детей. Так они реагируют на нарушение обещания, кражу конфет и т.д. Это чувство несправедливости, связанное с чувством чести и стыда. Темперамент, таким образом, является помощником разумной части души, которой, несмотря на мудрость, не хватает энергии и физической силы, чтобы упорядочить решения и желания. В правильно функционирующей душе импульсивный гнев является союзником разума» (с. 392). Эмма Коэн де Лара отмечает, что темпераментная часть души наименее известна современному мышлению.
Более поздние авторы выделяют в этой силе пять эмоций: мужество, страх, надежда, отчаяние и гнев, развязанные признанием угрожающего или уже существующего чувственного зла (угрозы, трудности и т. д.) и подчеркивают покорную роль этих борющихся эмоций по отношению к похотливым чувствам (видео: Фома Аквинский, Сума Теологический I-II, q.23). «Переход от инстинкта к полезному суждению, а именно проникновение интеллектом чисто чувственной, инстинктивной силы, является важнейшим процессом развития человеческой психики. Задержка или неправильное проникновение этой силы интеллектом приводит к психопатической личности; преждевременное или чрезмерное проникновение приводит к репрессивному неврозу».Анна Терруве, Конрад Баарс, Psychic Integration, Poznań, 1989, p.
Причина трех различий души (логос, эрос, тумос) — принцип противоположностей, потому что, как утверждает Сократ, «один и тот же не хотел бы одновременно испытывать противоположные состояния по отношению к одному и тому же объекту». При одном только желании человек не мог отвратиться ядом или воздержаться от его употребления. Поэтому, по Платону, человек, раб своих страстей, обречен на их вечный конфликт. Внутренняя гармония может быть достигнута путем подражания тем, кто уже использует разум. С удовольствием, первоначально подражая другим и продолжая эту привычку, душа может усвоить это удовольствие и начать удовлетворяться внутренними порядками разумной части души. Эмоции и желания становятся достаточно гибкими, чтобы получать удовольствие от работы с разумом" (Emma Cohen de Lara, Ibid., p. Рациональная психология после Платона была разработана Аристотелем, а после него непревзойденным образом и по сей день святым Фомой Аквинским (неверующие рекомендуют упомянутый номер 23 с prima secunda Sumy Theologi). Практика католической внутренней жизни полностью основана на подражании святым и медитации (сознательной молитве) в соответствии с методами рациональной психологии. «Appetitus sensitivus natus est obedire rationi», т.е. природа чувственного желания состоит в том, что оно руководствуется разумом (ST I-II, q.74 a.3 ad 1).
В отличие от католического подхода и греческой классики, современная педагогика не различает разум (logos) и чувства (eros и thumos) и вместо следования ей использует условность (видео: Паоло Лионни, Лейпцигская школа и систематическое разрушение образования, 2020. Таким образом, классическое образование уступает место обучению, и это несмотря на выводы нейрокогнитивов, реабилитирующих классические добродетели и закономерности. «Компьютерная метафора разума, стала уступать местам когнитивизма следующего поколения, называемого умом воплощенного и встроенного в культуру и социальные взаимодействия».Мэтью Хохол«На пути к единому знанию разума: межотраслевые теории в когнитивных науках». После номинизма Дэвид Юм (1711-1776) Традиция современной психологии оказалась сильнее. По мнению шотландского философа, мир совершенно беспорядочен и искать нечего. Нет никаких общих аспектов реальности, которые можно было бы признать. Если мы рассчитываем разбить стекло после литого кирпича, то это только результат нашего обитания таким, а не другим впечатлениям. Если бы кирпич вместо того, чтобы разбить стекло, расцвел букетом цветов, это было бы точно так же «понятно», потому что то же самое было бы чувственным опытом. Нет места для вероятностного счета, т.е. случая в Аристотеле, означающего вырезать несогласованные (т.е. не обменивающиеся информацией) причинные последовательности. Точно так же, как нет самой причины, которая остается ассоциацией чувственных ощущений.
Если эмпирическое чувство разума не отличается от чувств, то сархизированные чувственные желания порождают конфликты, о которых писал Платон. Сегодня они больше известны психоанализом. Зигизмунд Фрейд (1856 – 1939). Австрийский психиатр описывает конфликты между биологическими побуждениями (id) и культурными моделями (высшими), которые составляют человеческую психику (ego). По его мнению, это постоянный конфликт биологии с культурой, понимаемой как извращенная биология. Единственный способ – это избавиться от культуры. Поскольку это было бы социально деструктивным, на практике человеческое эго является результатом компромисса в соответствии с «принципом реальности». Мы находим здесь без труда духовные конфликты, признанные древними; в основном Эрос, как стремление к удовольствию (лат. appetitus concupiscibilis) с платоновским thumos (лат. appetitus irascabilis, другие названия: сила гнева, драйв борьбы, драйв полезности и т. д.), но и чувства самого гнева (ответственность, страх, надежда, отчаяние, гнев) между собой. Гневная сила, столь же близкая и восприимчивая к проникновению разума (полезного суждения), была отождествлена Фрейдом в духе Юма с культурой, и особенно с присутствующим в ней смертным влечением Фрейда (Танатосом). Тогда она справедливо отметила, что Эмма Коэн де Лара, процитированная выше, была наименее известна современному способу мышления. Если Фрейд приписывает подавление действиям определенных норм, моральных или социальных, которые своей контролирующей функцией делают некоторое чувство желания удовольствия невыносимым для человека, он прав в тех случаях, когда моральные нормы интерпретируются индивидом чувственным, неинтеллектуальным образом (что нормально у детей). Но неправильно, если нравственные нормы трактуются правильно: как рациональные принципы, относящиеся к разуму и воле. Фрейд не ввёл это различие. Можно предположить, что он даже не знал об этом» (Terruwe, Baars, «Integration...», p. 53). Он не мог знать о них. Рассматривая культуру как сексуальное извращение, он не отличал Логоса от Эроса.
Согласно Фрейду, культурно передаваемый конфликт — это религия. Первоначальная Орда должна была убить монополизирующего пола доминирующего самца (это явление на самом деле происходит у стад шимпанзе), а затем вина (страх) на фоне совершенного убийства превратилась в культ племенного отца (религии). Таким образом, сознание вины, поражающее все человечество (первородный грех), стало семенем социальной организации, религии и нравственных ограничений. Религия (культура) в терминах Фрейда, следовательно, является социальной нервозностью. Это как раз тот случай, когда тревожный нерв маскирует энергию (отважный). "Этот тип нерва, по сути, тревожное расстройство. Как и другие неврозы тревоги, она начинается с глубоко укоренившейся тревоги, которая начинает развиваться еще в детстве. Поскольку этот страх вызывает подавление удовольствия, он не может развиваться нормальным образом. По мере роста страха это обычно происходит из-за факторов доминирующей интеллектуальной природы: чувства долга и долга и вытекающей из этого необходимости выполнять свои собственные ожидания. Эта забота о том, чтобы делать то, что должно быть сделано, действительно также является страхом" (там же, стр. 95). Общим знаменателем всех фрейдистских неврозов является то, что они лишены объективного смысла. Это столкновение слепых, желаний одержимого интеллекта в мифы и символы.
То же самое можно сказать и о польской «романтической лжи», представленной в книге Мацеевского. Это иллюстрирует фигура князя Иосифа Понятовского: «Он увидел Эльстеру, реку, в которой он умрет. Смерть такая живописная, это невероятно. Он понял, что есть шанс очищения. Имена, собственно, тоже. Но грязь, покрывавшая его долгие годы последующими слоями, достигла гораздо глубже. Поцелуи иссохших губ, пьянство до смерти, оскорбления соотечественников, очереди в прусские конторы; и все же это название. Иосиф почувствовал, что у него грязная душа» («Ничего...», с. 105). Мифографическая фигура Понятовского иллюстрирует эффекты Тумоса Платона, а также фрейдистского Танатоса.
«Он знал, что не может перебраться через эту реку: он ехал верхом, а не на пегасе. Но в этом последнем прыжке — его последнем жесте, от которого он запомнился больше всего на свете — нет самоубийственной отставки. Он не падает в реку, он не по незнанию скользит с лошади. Он совершает на нем прыжок, который не мог увенчаться успехом — вероятно, он уже смертельно ранен, — но как будто действительно хотел улететь на спине животного на другой берег» (там же, с. 121). Менее романтичные описания утверждают, что лошадь под герцогом Пепимом просто утонула, имея голову, привязанную к ручной работе, используемой в то время, чтобы получить правильный изгиб шеи лошади. Но миф важен, а не реальный ход событий. «Пария стал святым, помазанным Богом и царем истории. Посмертное поклонение князю Иосифу — первое громкое «да», которое поляки возвестили об убийстве основателей разделов (с. 125).
Поляки чаще всего выбирали роль жертвоприношения, но были и желания наполнить себя мучителями. По мнению Мацеевского, романтическое воображение Ярослав Марек Рымкевич Она погружается в такие архаичные дохристианские жертвенные мифы. Никто так решительно и в то же время убедительно не поощрял поляков к формированию революционной, архаичной и самобытной толпы. Чтобы совершить убийство, чтобы начать свою историю заново, чтобы положить их на собственную кровь жертвы. Было бы лучше сделать это, как французы, убивая короля» (там же, с. 261). Обе языческие версии мифа можно отнести к атрофии христианства. «Когда святые символы христианского мира испарились из западного воображения, над нашим миром висела тень безответной массы. Под его прикрытием начали возвращаться кровавые жертвоприношения» (там же, с. 292).
Мацеевский считает целесообразным согласиться. Однако важно объяснить, как возникло христианское воображение в католической стране. Это можно сделать, если учесть два фактора: слабость польских элит и характер польского католицизма.. Традиции польской разведки берут начало примерно с четырехлетнего периода Сейма, что означает, что на них сильно влияют светские идеи Просвещения. "Бискупи и польские священники составляли огромную часть крестьянских сыновей. Это был единственный по-настоящему верующий слой в Польше. Юзеф Бошенский "Между логикой и верой. Jan Parys talks to Józef M. Bocheński", Warsaw 1998, p. Польский католицизм, с другой стороны, напоминает православие. Она одинаково церемониальная и эмоциональная. Спасение видится в потрясении, которое обычно становится соломенным рвением, не напоминающим католическую, аскетическую «дорогу к горе Кармель».
Она не придает значения догматам и интеллектуальному содержанию веры. «Наша традиционная церковь была неинтеллектуальной. Польша пережила катастрофу: Татарские набеги, депопуляция городов, немецкие наводнения и т.д. А после катастрофы начинается обновление под предводительством двух орденов: доминиканцев и францисканцев. Францисканцы гораздо многочисленнее, они народный орден, они на протяжении двух веков настигали польскую душу... Это закон, направленный на сердце и привязанность. Они сформировали польскую религию. Затем наступила вторая катастрофа: протестантизм, Реформация. Более половины польской разведки в то время были протестантами. Почти все светлое было протестантским» (там же, с. 186). Не случайно Польша была религиозно терпимой в 16 веке, что католическая церковь не приняла до Второго Ватиканского собора (1962-1965). Период контрреформации не меняет этой картины. «Великий человек, Осий, епископ Вармийский, привел иезуитов. Иезуиты видят, что польская душа захвачена францисканцами, что ее религиозность сентиментальна. Иезуиты, которые везде рационалистичны, стали чрезвычайно сентиментальными в Польше. Иезуиты — воинственные мальчики, основанные военным капитаном. В Польше они управляли душами, господствовали веками» (там же, с. 273). Не случайно самым выдающимся польским вкладом в католицизм является «грозное сожаление», а именно польский — религиозный мотив легкомысленного Христа, нигде, кроме Польши.
Таким образом, объясняется, почему редкий, набожный интеллигент будет защищать «ортодоксального» или словацкого Мицкевича, как епископ Щенский Фелинский в письменной форме после обращения «Мемориалов». И мы не будем удивлены. Чеслав Милош Удивительно, что в католической стране нет католической литературы. Станет понятно жаловаться Виткати на отсутствие у поляков головы для метафизических проблем и несколько шокирующее мнение Станислава Брзозовского о нерелигиозности польской мысли, способной вызвать отчаяние. Подтвердится, что основополагающим для Запада польским католицизмом является «наука и религия», по существу, не в польском религиозном сознании (опять же подобие православию).
Польша взяла на себя католическую литургию и церемониальность, но плохо усвоила содержание этой литургии. Хотя литургия существует благодаря чувственности человека, содержание, которое она передает, не чувственно. To Эрик Фогелин Можно сказать, что религиозный или идеологический порядок не может передаваться напрямую, а только через символы. Католический порядок не позволяет онтологии исключить ссылку на Логос. Одним из них является крайний эмпиризм. Отрицая различие между чувствами и разумом, оно заставляет символы обращаться к самим себе, то есть впечатлениям и эмоциям, из которых они сделаны, де-факто не быть символами.
Поэтому важно избегать ошибки отождествления религии с политической идеологией, к которой ведет отсутствие четкой линии между ними. Мы рискуем, что политические традиции католического государства, такие как Польша, будут удалены из католического политического смысла и наполнены псевдорелигиозными мифами.
Владимир Ковалик
Przemyśl Poland, nr 21-22 (25.06-1.0025)