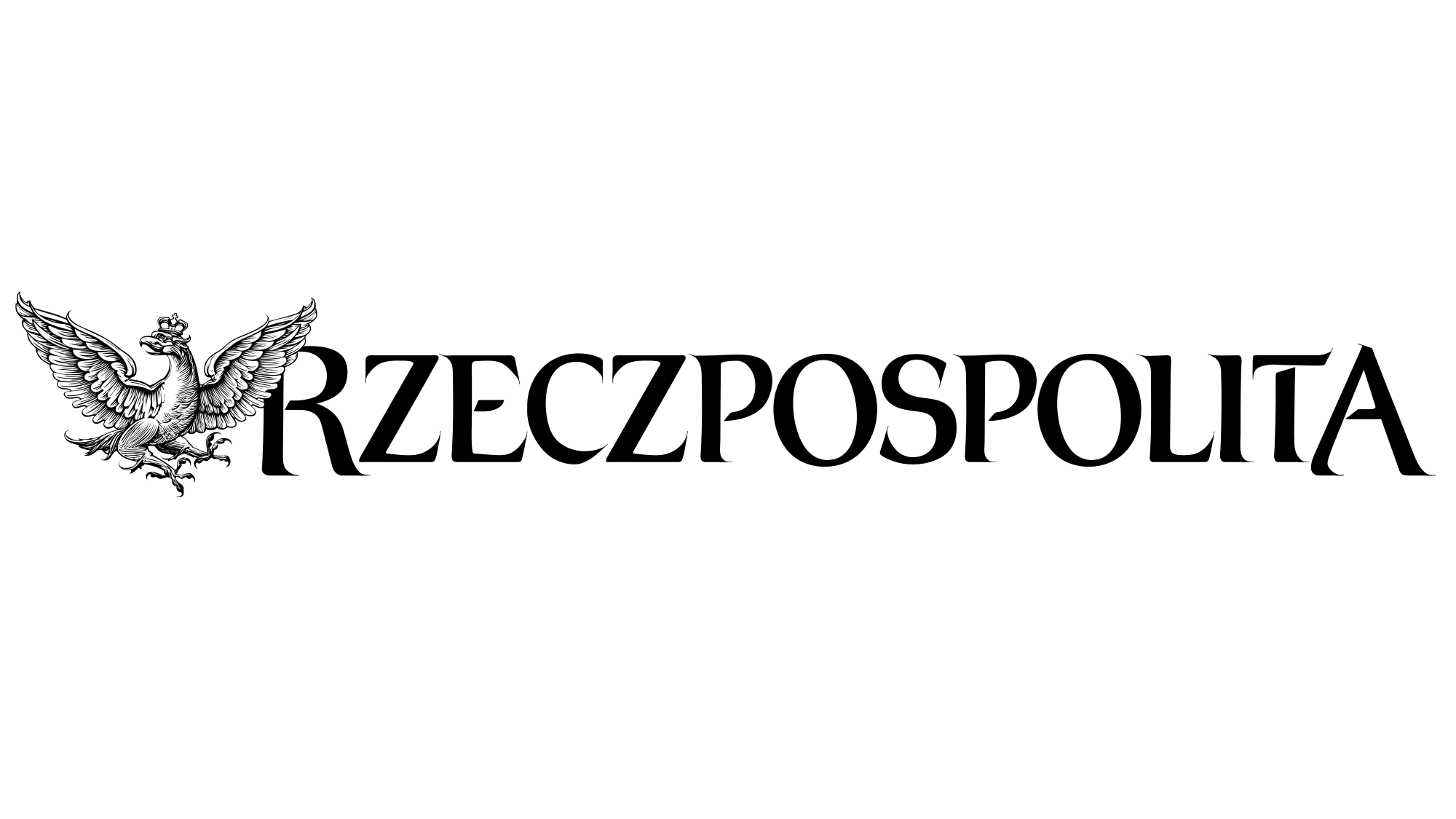Мы с профессором Юлиусом Гардавским говорим о формировании капитализма в Польше, о социальном диалоге, о лоскутном капитализме, о рабочих и работодателях.

Юлиус Гардавски
Профессор д-р Хаб, отставной сотрудник и в настоящее время сотрудник Школы экономики, в прошлом заведующий кафедрой экономической социологии и директор Института философии, социологии и экономической социологии этого университета. Предметом интереса и исследований является экономическая социология, социальная политика, сравнительная политическая экономика. В течение многих лет изучал экономическое сознание рабочего класса, в том числе в период политического прорыва, профсоюзов и органов рабочей власти, слоя собственников малых и средних предприятий, проводил предкарьерные исследования в польском и немецком обществе, социальной структуре, многообразии рыночной экономики. В последние годы он участвовал в командах Варшавского университета и Варшавского университета, исследующих социальные аспекты пандемии Covid-19 и проблему мультикризиса. Автор около 200 научных работ.
Кшиштоф Володзько: В 2026 году мы отметим 20-летие закона об информировании работников и проведении консультаций. Как вы оцениваете функционирование законопроекта, что осталось только на бумаге, что реализовано, а что стоит отремонтировать?
Профессор Юлиуш Гардавски: Этот вопрос возвращается не только к профсоюзам, но и к исследователям, интересующимся социально-экономическими вопросами. Проблема в том, что этот закон часто обсуждается вне конституционного контекста, в то время как в условиях нашей экономической и политической системы, такой как капитализм, институты, связанные с влиянием рабочих, сталкиваются со значительными ограничениями.
Почему?
Начнем с разнообразия капитализма. Питер Холл и Дэвид Соскис определили два основных типа капиталистической экономики: «либеральная рыночная экономика» и «скоординированная рыночная экономика».
Первый тип делает упор на свободный рынок, конкуренцию, ограничивая влияние государственных институтов на экономику, контролируя компании фондовой биржей, сводя к минимуму роль профсоюзов и развиваясь в англосаксонских странах, в основном в США.
Второй ограничивает рыночные механизмы различных социальных институтов, помимо конкуренции предполагает координацию между компаниями, делает акцент на банковском контроле, более терпеливый, чем фондовый рынок, придает высокий ранг профсоюзам и т.д. Примером этого типа являются страны немецкого языка, страны Бенилюкса, частично скандинавские страны. На тип капитализма влияет не только экономика, но и культура, отношения, ценности, стремления. Я оставляю в стороне предложения по классификации капитализма России, Украины и государств "Русского содружества" (Сообщества независимых государств - ред.), что не является для нас хорошей эталонной системой.
Польша и большинство посткоммунистических стран Центральной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х годов выбрали путь либеральной рыночной экономики, при этом наследие прошлого и условия трансформации придали местному либерализму особый оттенок.
Здесь развился капитализм, который среди экономических социологов и экономистов Варшавской школы экономики, а также Вроцлавского университета, что я процитирую имена Рышарда Рапаки и Адама Мрозовице, мы называем «патч-капитализмом». Я бы добавил, что она развивалась, хотя в 1980-х годах не было никаких признаков того, что мы войдем на нынешний путь, также из-за отношения польского общества.
Некоторое время назад Я говорил с профессором. Маргарет Джачино для журнала Civil Affairs Weekly.. Она упомянула, что в те годы французы, шире - западные интеллектуалы смотрели на Польшу с надеждой. Они надеялись, что мы проложим путь между авторитарным социализмом и все более неолиберальным западным капитализмом. Почему этого не произошло?
Ответ требует ссылки на культурный подтекст экономической и политической системы в Польше.
Отправной точкой является остаток предыдущей системы. Низкий уровень отождествления с официальными государственными и юридическими институтами, сильная интеграция на уровне небольших семейных и социальных групп, сильное чувство разделения на «нас», то есть общество и «их», то есть представление официального мира, дистанция и низкий уровень доверия к тому, что не является национальным, особенно в отношении власти, список можно было бы умножить.
Стефан Новак, один из наших самых выдающихся социологов после Второй мировой войны, оценивался в конце 1970-х годов. В 20-м веке польское общество слабо интегрировано и напоминает федерацию семейных и социальных групп с низким уровнем отождествления с миром официальных институтов. Если что-то было интегрировано, то ощущение национальной общности как моральной категории, сущности государства. При этом большинство поляков были сильно привязаны к идее демократии, независимо от того, что понималось под ней.
Эти культурные особенности общества оказались жестким орешком для коммунистической партии, и в значительной степени они привели к далеко идущей метаморфозе коммунистического проекта, включая согласие оппозиции партии, управляющей великим общественным движением «Солидарность» и его развитым рабочим самоуправлением, участие сотрудников в управлении предприятиями.
Даже во время дебатов в 1980-х годах и обсуждений за круглым столом вопроса о самоуправлении работников казалось, что Польша отходит от авторитарного социализма к демократии, включая промышленную демократию. В 1980-х годах в нашей стране проводили исследования социолог Рональд Ф. Инглхарт, создатель и руководитель великих мировых исследований систем ценностей World Values Survey и Рената Семиенска. Исследования показали, что наше общество чрезвычайно сильно привязано к самоуправлению и политической свободе, и эти отношения не ослабли.
Я помню разговор с Франком Хантке, который во второй половине 1990-х годов возглавил польский представитель немецкого социал-демократического фонда Фридрих Эберт. Приехав сюда, он думал, что узнает об опыте профсоюзов, эффективно ведущих переговоры с правительством и работодателями в рамках модели социальной рыночной экономики, поскольку такой стереотип существовал до сих пор в составе западных профсоюзов. Однако в 1990-е годы произошел быстрый процесс эрозии, унаследованный от авторитетного социализма социального измерения экономики.
В первую очередь я готов указать на принятие руководством «Солидарности» либерального сокращения профсоюзных функций в рыночной экономике. Согласно этой доктрине, функция профсоюзов заключалась в защите условий труда и оплаты труда, но не в том, чтобы быть частью управления, а тем более участвовать в институтах типа рабочего самоуправления.
Как я уже сказал, на социальные установки повлиял наш развивающийся лоскутный капитализм, который привел, среди прочего, к глубокой фрагментации политики, экономики и самого общества. Но я должен добавить, что у него есть и положительные стороны.
Каков тип лоскутного капитализма?
Когда произошёл неожиданный срыв подконтрольного Москве авторитаризма, общество приняло власть «элиты прорыва» Солидарности, представителей «нас» по отношению к «им». Экономическая власть авторитарного социализма потеряла контроль, частное предпринимательство, хоть и многочисленное, было маржем, «элита прорыва» стала суверенным активом, но не захотела брать на себя эту собственность, ее намерением была большая политическая миссия по строительству парламентской демократии и рыночной экономики. Он столкнулся с драматическим глубоким экономическим кризисом, почти банкротством страны. Получив общественную поддержку, она совершила революцию не только по отношению к социалистическому авторитаризму, но и по отношению к модели, которую преследовала «Солидарность» в ходе переговоров Круглого стола, близких к скоординированной рыночной экономике.
Именно здесь «разрушительная элита» предложила модель радикально либеральной рыночной экономики, отвергнув влияние рабочих на управление.
Принятие либеральной модели требовалось консорциумами иностранных банков как условие поддержки страны, но и в целом соответствовало экономическим взглядам «прорывной элиты». Путь к лоскутному капитализму открылся.
Как формировался этот капитализм и как он повлиял на трудовые отношения?
Здесь начинается история, которую я разделю на этапы.
На первом этапе «элиты прорыва» с Лешеком Бальцеровичем как создателем экономической программы вмешательство государства в экономику было ограничено до минимума за короткое время, углубилось дерегулирование, уже начатое правительством Мечислава Раковского, значительно возросла свобода управления — все, что не запрещено законом, разрешено. Власть свела затраты на открытие частных компаний к минимуму - их может начать любой желающий. Поскольку грибы образовались после дождя, малые компании правили как могли и хотели, обозреватели стали писать о возвращении в XIX веке нерегулируемого капитализма, в то время как рабочие отношения в малых и средних частных компаниях стали меняться так, что они приняли форму лоскутного одеяла, которое можно было каким-либо образом сформировать внутреннюю систему компаний. Помимо появления извилистой волны малых и средних компаний в плане трудовых отношений, стали расти и состояния польских олигархов, в основном специализирующихся на посредничестве между государством и иностранным капиталом.
Следующий этап включал социальные последствия экономической либерализации и хаотической приватизации крупных компаний. На полях вспомню громкое предложение министра промышленности Тадеуша Сырыйчика, что лучшая промышленная политика - это отсутствие такой политики, но он добавил, что экономическая политика нужна, забыв, что без промышленной политики она будет очевидна. Холодное дыхание настоящего либерализма вызвало восстание рабочего класса — материальный уровень жизни его членов снизился и оказался бессилен по отношению к приватизации государственных предприятий, руководимых над их головами. Результатом стал уход революционной «элиты прорыва» и её замена «элитой адаптации», взявшей на себя роль защитника экономического либерализма от гнева рабочих, что потребовало смягчения рыночных механизмов. Яцек Куронь, первоначально поддерживавший радикальный либерализм, а затем инициировавший переговоры о «Пакте государственного предпринимательства в процессе трансформации» между правительством, профсоюзами и работодателями, занял отличительную позицию. Важнейшим результатом переговоров стала частичная социализация приватизационной политики и инициирование социального диалога.
Социальный диалог между трудом, капиталом и государством является основой социальной рыночной экономики, можно идти дальше - это синоним с ней.
Соглашение привело к созданию Комиссии по социальным и экономическим вопросам правительством Трехсторонней комиссии. Это заставило либеральную модель в Польше взять на себя некоторые черты модели скоординированной социальной рыночной экономики, но социальный фактор играл второстепенную роль.
Третий этап, решающий для лоскутного капитализма, предполагает принятие элитой программы развития капитализма в Польше через прямые иностранные инвестиции, а именно капитализм, созданный «вне» или «экзогенный» капитализм. Взаимодействие условий, заключавшееся в отсутствии родного класса собственников-производителей, устранении номенклатуры, господстве экономики либеральной элитой, избегании вмешательства в экономику, низкой стоимости входа в систему новых организаций и наличии других особенностей формирующегося лоскутного капитализма, оказалось чрезвычайно выгодным для иностранного капитала, оказавшего широкую волну влияния на польскую экономику.
При этих исключительно благоприятных условиях для иностранного капитала развивалась модель, соответствующая «зависимой рыночной экономике» Андреаса Нёлка и Адриана Влигенгарта. По транснациональной модели корпорации (ТНК) осуществляли многосерийное производство современных, но не инновационных товаров на основе импортируемых из-за рубежа. Знать, как.
Эти товары в основном удовлетворяли спрос на внешних рынках. Экономика страны росла, особенно за счет подсчёта уровня ВНП на душу населения, но не имела целевого развития, дрейфовала. Корпорации формировали корпоративное управление и производственные отношения в национальных дочерних компаниях по своему усмотрению. В результате компании ТНК напоминали архипелаг независимых островов со своей институциональной логикой. Патчворк, созданный малыми компаниями в начале 1990-х годов, был качественно разработан во второй половине 1990-х годов благодаря мозаике институциональной логики на предприятиях, принадлежащих ТНК. В заключение я должен добавить, что некоторые экономисты указывают на зависимую рыночную экономику в виде фундаментального ограничения на экспансию национальных олигархов.
Как вы понимаете лоскутное одеяло?
Патчворк - это макет, образованный прикреплением элементов, независимых от заранее подготовленных.
Каждый из элементов лоскутного одеяла представляет собой замкнутое целое со своей спецификой, а вся их компоновка подобна ковру, сшитому из случайных кусочков материала. Последующие шаги в росте лоскутного одеяла не могут быть предсказаны на основе анализа найденной системы.
Принадлежащая ТНК компания, вступая в лоскутную экономическую систему, приносит собственное корпоративное управление, трудовые отношения, действует при диктатуре своей штаб-квартиры, преследует свои цели, как правило, удовлетворяет спрос на внешнем рынке. Эти цели не обязательно должны соответствовать целям экономической политики принимающей страны. Институт государства, мало влияющий на экономику, имеет ограниченные регулирующие функции, а структура государства также приобретает черты лоскутного одеяла, когда последующие правительства вносят изменения, несовместимые с существующей государственной архитектурой. Patchwork расширяет возможности волонтеров, которые могут специально вносить изменения в государственную модель.
Как насчет идеи социальной рыночной экономики?
В то время как во время заседания польского Круглого стола «Солидарность» провозгласила требование «социальной рыночной экономики», Тадеуш Мазовецки не использовал этот термин в своем разоблачении в сентябре 1989 года, но заявил о необходимости «перехода к современной рыночной экономике, опробованной развитыми странами», что означало либеральную рыночную экономику в то время. Если бы модель либеральной рыночной экономики, введенная «элитой прорыва», сохранилась, она, вероятно, осталась бы таковой, но восстание рабочего класса, появление «элиты адаптации» и компромисс с профсоюзами изменили ситуацию. Появился институт, потенциально социализирующий рыночную экономику, Трехсторонний комитет по социально-экономическим вопросам. Его официальные цели заключались в проведении диалога для согласования интересов работников, работодателей и правительства, представляющих общественное благо. Она была направлена на достижение и сохранение социального мира.
Как указано в постановлении о создании Трехсторонней комиссии, выводы в рамках комитета вступили в силу с согласия правительственной стороны. Таким образом, соглашение по какому-либо вопросу, принятое совместно трудовыми (профсоюзами) и капитальными (организациями работников), требует определенной контрподписи со стороны правительства для получения власти. Я подчеркиваю фразу «потенциальная социализация», потому что для того, чтобы иметь некоторые аспекты социальной рыночной экономики, необходим компромисс между рабочим капиталом и правительством. В этой перспективе возникают сложные проблемы: технократическая ориентация правительств и нежелание учитывать мнения профсоюзов, особенно министров, в которых областью являются государственные финансы, трудности профсоюзов с мобилизацией рабочего класса, лоббистская ориентация организаций работодателей и ремесленных организаций и т. д.
Вы говорили в самом начале нашего разговора о недоверии к нашему обществу, так как же в этой ситуации можно было социализировать либерализм?
Тем не менее, были попытки такой социализации и были некоторые успехи. Первая, очень важная, включала в себя деятельность Джека Куронии и Анджея Бончковского с 1994 по 1996 год.
Куронь инициировал переговоры по Пакту о компаниях, что в конечном итоге привело к созданию Трехсторонней комиссии правительством, в свою очередь, Бончковский возглавлял комиссию в течение ее первоначального периода. Согласно концепции Куронии и Бончковского, Комиссия должна была играть важную роль в экономической политике, но она также должна была сформировать культуру доверия, обеспечить устойчивую социализацию либеральной модели в рамках социального диалога, но не разрушая ее ядро рынка.
Бончковский взял на себя миссию реализации куронской концепции делиберальной демократии в социальном диалоге. Он делал это посредством долгосрочных переговоров, в которых лично убеждал правительство и профсоюзные стороны идти на уступки и идти на компромиссы друг с другом, даже заставляя членов правительства создавать пространство для компромиссов, предоставляя возможности социальным организациям. Шаг за шагом он преодолевал барьер недоверия. Несмотря на появление климата для реальной делиберализации, политические переплетения крупных профсоюзных центров стали препятствовать компромиссам, однако Бончковский не подал в отставку. К сожалению, его тяжелая болезнь сердца и многочасовые переговоры привели к преждевременной смерти, и его преемники на посту председателя Комиссии не продолжили его работу. После его смерти развились ранее, но подавленные им, политизация позиций профсоюзов и работа в области формирования культуры компромисса на время закончилась.
В 2002 и 2003 годах вторая попытка была предпринята министром, а затем вице-премьером Ежи Хауснером. Когда это было частью правительства, экономика была стагнирующей и высокой безработицей. Его целью было заключение амбициозного «Пакта о работе и развитии» в Трехсторонней комиссии. Он начал свою деятельность системно: подготовил теоретическую концепцию и практические рекомендации по проведению социального диалога в духе Куронии и Бончковского, и тем самым не только для совершенствования государственной политики, но и для создания устойчивого климата диалога и поиска компромисса, устойчивой социализации экономической политики, но и без отказа от экономической политики.
Помню девиз концепции, что «действия государственного управления, основанные исключительно на иерархических административно-правовых отношениях, являются как несанкционированными, так и неэффективными в демократическом государстве».
В начале работы над пактом ему пришлось сломать нежелание «Солидарности» вести переговоры с левым правительством, затем ему удалось в течение нескольких месяцев обсуждать с профсоюзами и организациями работодателей экономические реформы. Достигнут ряд преимущественно секторальных успехов, но амбициозный пакт не согласован. Хауснер практически доказал, что проведение социального диалога требует от правительства взять на себя абсолютную ответственность за взятые обязательства. Когда возникло серьезное напряжение с председателем "Солидарности", он заявил, что у него есть оговорки по поводу Хаузнера, что он недоуравновешивает интересы профсоюза и работодателей, но никогда не переставал доверять, "он не лгал". В среде социального диалога его помнят и по сей день.
То есть возможный меньший или больший успех в социализации рыночной экономики в Польше зависит от определения правительственной стороны, а тем более от определения личности, в данном случае представителя правительственной стороны?
Однако в польском социальном диалоге был исключительный случай, подписание весной 2009 года всеми профсоюзами и организациями работодателей так называемого антикризисного пакета.
Отправной точкой стал глобальный кризис, затрагивающий как общественные интересы, так и интересы работников и работодателей. В польских экономических кругах осенью 2008 года было распространено мнение, что к нашей стране приближается глубокий кризис. Опасались, что, как и в случае с кризисом 1930-х годов, кризис в Польше появится с некоторой задержкой по отношению к западноевропейским странам, но он будет глубже, чем там, и продлится дольше. Ожидалась волна банкротства финансовых институтов и компаний из основных секторов экономики и сопутствующая волна безработицы.
В конце 2008 года был разработан план стабилизации правительства. Представители всех организаций на стороне труда и на стороне капитала Трехсторонней комиссии сочли правительственный проект консервативным и неадекватным, учитывая ожидаемые масштабы и глубину кризиса и его последствия как для мира труда, так и для предпринимателей. В этой ситуации они занялись интенсивной работой и пришли к компромиссу в интересах работодателей и профсоюзов. Я оставлю позади судьбу этого соглашения, потому что, когда Польша была обойдена кризисом, было нарушение компромисса работодателями, но также и правительством. Однако важно объединить обе стороны диалога перед лицом кризиса.
В начале преобразований Польша также имела свои собственные сильные просоциальные и прорабочие традиции и амбиции.
Польское общество, несмотря на низкий уровень доверия к иностранцам, т. е. к социальному капиталу типа «мост» и власти, т. е. к капиталу типа «подчинение», на практике доказало готовность создавать связи и доверие внутри своих групп, а не только в малых. В некоторых ситуациях такое знакомство может распространяться на всю нацию. Такая национальность была основой демократического самоуправления, появляясь и развиваясь в Польше несколько раз после Второй мировой войны.
Сначала стихийно сформировавшееся движение учреждений трудовых советов взяло на себя управление фабриками на некоторый период (также предпринята их реконструкция) после того, как они покинули немецких оккупантов с 1944 по 1945 год. Во-вторых, рабочее движение в промышленности в 1956 году. Это была форма участия экипажей в управлении, а также диалог с директорами заводов. Это движение длилось два года и сначала было ограничено, а затем ликвидировано Владиславом Гомулкой. В третий раз это был институт трудовых советов, эффективно продвигаемый в рамках формирующейся в 1980-х годах «Солидарности» дальновидным политиком Джеком Курониа, автором программы «Региональная Республика» ?.
«Солидарность» была всеохватывающим общественным движением, которое можно трактовать в терминах понятий Новака как выражение интеграции польского общества на уровне морально понимаемой Нации, противостоящей власти «коммун». Добавлю, что забастовки, организованные «Солидарностью» в период с 1980 по 1981 год, редко касались местных, заводских, как правило, социальных вопросов (забастовка Бельско-Бяльского района в 1981 году из-за власти нескольких частных вилл).
«Солидарность» взялась за куронскую идею самоуправления экипажей роты с 1980 по 1981 год и сломив сопротивление тогдашней власти привела к принятию соответствующих законов в сентябре 1981 года. Они были одними из важнейших достижений «Солидарности», поскольку в условиях ограниченного авторитаризма преобразовали авторитарную модель социалистического государства в модель рыночного самоуправления. Аксиологическая ось модели состояла в том, чтобы «институтировать работу», дать голос рабочему классу и создать уровень диалога на уровне независимых предприятий. Модель относилась к югославскому режиму, а также к достижениям в участии «нового рабочего класса» в странах континентальной Европы и Скандинавии. Здесь я хотел бы подчеркнуть роль в продвижении соответствующего французского опыта Лешека Гилейки и югославов Марии Ярош.
Как развивался социальный диалог?
Укрепление социального диалога, т.е. социально-рыночного хозяйства за счет деятельности правительственной стороны, профсоюзных лидеров и организаций работодателей, также произошло за пределами трех упомянутых примеров. Я мог бы назвать имена участников, но механизм диалога чаще терпел неудачу. Это обусловлено целым рядом причин, как правило, унифицированным формированием государственной политики по ключевым для мира труда вопросам, без учета мнения социальной стороны, особенно профсоюзов, что, очевидно, означало отказ от модели социальной рыночной экономики. В 2013 году профсоюзы приостановили свое участие во всех институтах социального диалога, включая отраслевые команды, после того, как правящая в то время коалиция отказалась принимать системные социально-экономические решения, предложенные профсоюзами, в частности в отношении пенсионного возраста и срочных контрактов. Власть была готова пойти на незначительные компромиссы с рабочими организациями, даже по мостовым пенсиям, но не собиралась нарушать неолиберализм. статус кво в других вопросах.
Тогда же состоялась большая профсоюзная конференция, в ходе которой «Солидарность» при поддержке Национального профсоюзного соглашения представила модель социальной, скоординированной рыночной экономики в сфере труда. В этой модели рабочий мир, представленный профсоюзами, будет иметь важное, а не только консультационное влияние на трудовое законодательство. Инициатива, как и следовало ожидать, не встретила никакой реакции ни со стороны правительства, ни со стороны организаций работодателей. На этот проект не повлияло приостановление всеми профсоюзами участия в диалоге, продолжавшееся два года. Эта приостановка также не повлияла на положение дел в мире труда, что не означает, что отдельные профсоюзы утратили влияние, которое они имели до приостановки своей деятельности в Трехсторонней комиссии.
В 2015 году мы вернулись не в Трехстороннюю комиссию, а в Совет социального диалога. Однако я не думал, что эта новая институциональная форма социального диалога окажет жизненно важное влияние на эффективность диалога, на культуру диалога или на уровень доверия между участвующими в диалоге организациями и, самое главное, на политическую волю правительства вести социальный диалог с представительством труда и капитала.
Специфика отечественного капитализма усиливает и социальное недоверие к рабочим организациям.
Если мы вспомним лоскутную природу родного капитализма, трудно ответить, используя большие количественные показатели. Отличается в секторе государственных/государственных предприятий относительно высоким союзом, иначе в лоскутном и крайне разнообразном внешнем секторе бизнеса, иначе в крупных польских и польско-иностранных предприятиях. Добавлю, что в секторе польских малых и средних предприятий профсоюзов не будет. В секторе, контролируемом ТНК, существуют определенные зависимости от страны происхождения столицы, потому что неправда, что у ТНК нет родины.
Немецкие корпорации, работающие в Польше, наблюдаются немецкими профсоюзами, особенно DGB, опасаясь, что эти корпорации не рассматривают свои компании в Польше как полигоны, чтобы найти способы ослабить профсоюзы также в Германии.
Именно здесь союз часто занимает хорошую позицию в польских дочерних компаниях, принадлежащих немецкому капиталу. Добавлю, что я опускаю ослабление позиций профсоюзов в самой Германии. Некоторые отличительные различия можно найти между компаниями, принадлежащими французскому, американскому или скандинавскому капиталу. Однако эти зависимости не были сильными. Иностранные корпорации часто проводят различные политики, чтобы приручить и ослабить профсоюзы, хотя обычно пытаются ограничить их. Логика Patchwork основана на том, что штаб-квартира ТНК определяет политику трудовых отношений для своих дочерних компаний.
Однако если посмотреть на социальную оценку польского профсоюзного движения, то ситуация не удовлетворительная.
Главным образом потому, что некоторые проблемы, с которыми сталкивается мир труда, требуют комплексной и активной реакции всего профсоюзного движения, в то время как профсоюзы разделены политически и не могут позволить себе комплексные действия. Институциональным представителям сферы труда очень сложно прийти к реальному соглашению по жгучим проблемам, которые в значительной степени затрагивают молодых людей, выходящих на рынок труда.
Ваши заявления свидетельствуют о том, что в Польше необходимо будет должным образом изменить систему, чтобы дать иной курс по трудовым вопросам. Но мы знаем, что неолиберализм становится сильнее, а не слабее. Это заставляет нас задаться вопросом, куда пойдут глубокие системные решения в этой ситуации.
В нашей стране произошли изменения в системе качественного скачка по отношению к выводам социальной стороны в переговорах Круглого стола. Новое качество, символизируемое одиннадцатью законами Лешека Бальцеровича, было укоренено, а соответствующее новое качество социально-экономического порядка вывело определенные, пока второстепенные, темы из культуры общества, в то время как он переместился в область теней, которые ранее доминировали.
Левая ориентация, относительно сильная в мире труда в прошлом, теперь уступила место правой ориентации, в поддержке идеи социальной рыночной экономики доминировала поддержка либеральной рыночной экономики.
Это отступление также касается эгалитарной и прогосударственной ориентации, отодвинутой на второй план. Кроме того, изменение было усилено сдвигами в демографической структуре, а также в социальной и профессиональной структуре.
Промышленный рабочий класс исчезает, особенно его большой промышленный сегмент. Именно этот класс спровоцировал события августа 1980 года, поддержавшие соглашения Круглого стола, но не готовые выстоять за сохранение социальных круглосуточных договоренностей, допустил упразднение самоуправления работников, а после 1990 года начал подвергаться быстрой эрозии с изменением промышленной структуры и развитием средних и малых компаний.
С исчезновением крупных фабрик, сосредоточенного в них класса рабочих, придающего силы профсоюзам, мир труда не исчезает, не исчезают соревнования «голубых воротничков», а их участие в профессиональной структуре существенно не уменьшается, а кроме того, увеличивается доля прекурсоров, этого «подкласса» современного рынка труда. Феномен эксплуатации труда также сохраняется, но, как это ни парадоксально, он растёт среди молодых рабочих, а также прекарьеристов, поддерживающих либеральные экономические принципы. В то же время эти молодые люди отвергают один аспект рыночной экономики: либерализм на рынке труда и ожидают устойчивой занятости в условиях постоянных контрактов.
Вы упомянули освежающий фермент 2013 года. Общественное мнение может вспомнить большой протест рабочих организаций в Варшаве, организованный в сентябре того же года: ОПЗЗ, Форум профсоюзов (ФЗЗ) и НСЗЗ Солидарность. Годы спустя я чувствую, что это было легче включить в качестве политической, антиправительственной речи, чем прорабочее проявление с четким просоциальным посланием.
Это была важная демонстрация. В то время рабочие имели возможность сказать, что, несмотря на политические разногласия, все организации выдвигали одни и те же требования от имени мира труда. Хотя количество проявлений было не очень высоким, оно было достаточно большим, чтобы дать сотрудникам шанс подсчитать. К сожалению, предстоящие парламентские выборы привели к политическому успеху.
Какое экономическое значение имеет участие рабочей силы в демократической системе, хотя бы формально ссылаясь на принцип социальной рыночной экономики?
Существует обширная литература об экономической важности участия сотрудников, особенно через соответствующие учреждения. Ссылаясь на ваш вопрос, влияние участия на управление, как правило, не анализируется в отношении типа системы, хотя такая политико-идеологическая перспектива иногда учитывается. Я представлю результаты исследований, которые показали положительное влияние участия работников через профсоюзы. Обратимся к классическим исследованиям американской Гарвардской школы.
Во-первых, участие снижает негативный эффект авторитарного управления. Во-вторых, у работников усиливается чувство субъективности, в-третьих, улучшается поток информации и координация между руководством и сотрудниками, а в-четвертых, существует механизм, с помощью которого критические голоса сотрудников доходят до правления и позволяют им избегать неуместных решений.
В последнем случае указывается, что совет директоров может и без посредничества консультироваться с работниками, но, по сути, работники без профсоюзных щитов, если они будут вести себя рационально, не будут рисковать выдвигать какие-то обвинения в адрес начальства. Это создает теневую зону: сотрудники готовы жаловаться на выбранные аспекты рабочей среды, но не будут информировать о патологиях менеджмента, особенно тех, в которых обвиняют их непосредственные руководители.
Как это отражается в польских реалиях?
Мы являемся одной из экономик, которые соответствуют лоскутному капитализму и типу зависимой рыночной экономики, на начало нашего разговора у меня ушло некоторое время.
Структура такой экономики не только многомерна, но и большинство этих измерений имеют мозаичные структуры. Отличается в компаниях, приближенных к координированной рыночной экономике, т.е. в нишах государственной/государственной собственности, хотя обобщить опыт госкомпаний и еще сложнее установить общий знаменатель для дочерних компаний ТНК, в которых внедряются различные формы несоюзного представительства интересов работников, создавать различные каналы информационного потока, пользоваться услугами самыми разными способами. Управление людскими ресурсами (HRM). В малой или средней частной компании, однако, владелец скажет вам, что его участие является непрерывным, что любой может прийти к нему и сказать ему, что у него на сердце, и он сам является лучшим представителем интересов сотрудников.
Какова ценность участия социальных работников?
Польское интегрированное общество испытывает дефицит связей на уровне институтов гражданского общества. Промышленная демократия – диалог, делиберализация, участие в трудовой деятельности – это прекрасная политика формирования гражданских установок. Текущие исследования в секторе государственной собственности показывают, что, несмотря на существование различных форм сбора мнений сотрудников и даже предоставления голосов работникам, трудовые отношения более авторитетны, чем демократические. Авторитарный климат в работе, где вы проводите большую часть своей жизни, даже если вы не отождествляете себя с этой работой, бросает тень на ваши отношения, может быть вовлечен в формирование авторитетной личности.
В новой «постфордской фабрике», которой является Amazon, — поскольку эта «фабрика» работает не в промышленности, как фабрика в период индустриализма Форда, а как центр снабжения, — молодые рабочие создали профсоюзы и потребовали своего голоса. Трудно предсказать, чем закончится этот квест, организованный в «сердце» постфордовой экономики. Насколько я знаю, Amazon, встречаясь с восстаниями рабочих в своих дочерних компаниях по всему миру, неохотно принимает участие сотрудников. Возможно, государство будет вынуждено начать смягчать неолиберальную модель и взять на себя миссию по увеличению социального соотношения в либеральной рыночной экономике.
Я вижу серьезную проблему – политические силы, которые пользуются доверием молодежи и направляются к власти, требуют якобы оставленных правил свободного рынка. Единственным исключением является Партия Вместе, но нет никаких признаков того, что она придаст тон польской политике в следующем десятилетии.
Это безошибочно, но я обратю внимание на результаты исследования 2023 года, о котором я уже упоминал. Молодежь часто критикует систему, что бы это ни значило, критикует институт государства, хочет рыночных механизмов и конкуренции, снижения налогов, но при этом ожидает бесплатного медицинского обслуживания и трудоустройства на стабильных условиях.
В разговоре для Сезари Мижевского Гражданская неделя Он сказал мне: «Подход к профсоюзам очень исправный — люди не хотят их создавать, хотя в кризисных ситуациях они идут к ним с правильными часто претензиями». Как вы оцениваете отношение поляков и поляков к рабочим организациям — насколько оно меняется в последующие годы выхода на рынок?
Добавьте к этому еще одну проблему – закрытие профсоюзных элит в своих рабочих помещениях в своих пузырях, плохо доступных другим сотрудникам.
Профсоюзы считаются работниками скорее положительными, нежели «желтыми», т.е. теми, кто использует управление компанией, а не представляет интересы сотрудников, но проблема заметна. Вместо этого отношение трудящихся к профсоюзам можно было бы охарактеризовать следующим образом: «Они помогли бы, если бы могли. Но, скорее, они не могут помочь. "
В течение многих лет профсоюзные работники платили низкие взносы в виде возможного страхования, молодые рабочие редко вступают в профсоюз, так как знают, что если профсоюз защищает своих членов, то тех, у кого длительный союз опыта, не молодых. Однако я подчеркиваю, что эти комментарии касаются государственных/государственных фирм, поскольку у дочерей ТНК ситуация столь же разнообразна, как и структура лоскутного одеяла. Однако ситуация с вновь созданными профсоюзными организациями, особенно молодыми рабочими, как известно из публичного сообщения профсоюзов в Amazon, отличается.
На протяжении десятилетий рынок труда в Польше сильно менялся: с двузначного до недавно растущего, но не превышающего 6%, уровня безработицы. В половине шутка, в половине серьезная - в течение нескольких лет они мотивировали работу "фруктовыми четвергами", второй рычанием босса: "У меня на твоем месте десять". Участие в рабочей силе обоих было неизвестно. Их работодатели, с другой стороны, угрожали, что это будут сотрудники, которые будут принимать решение о компаниях.
Американский психолог Маслоу разработал иерархию потребностей, на основе которой поставил основные потребности на вершину потребности в самореализации и автономии. Потребность в автономии, которую мы можем связать с участием в управлении, была поставлена очень высоко. Затем он предположил, что только после удовлетворения потребностей низшего порядка рождается стремление к дальнейшим высшим потребностям. Поэтому только тогда, когда вас принимают и уважают в группе, возникает необходимость в автономии и участии.
Концепция Маслоу неоднократно подвергалась критике, но была признана научным сообществом. В среднестатистической польской компании большинство сотрудников ожидают, помимо удовлетворительных выплат, подтверждения своих ценностей окружающей средой и уважения к ним. Участие в управлении означает обязанность, ответственность, время. Сначала для самоуправления работников были отобраны работники с большой степенью полномочий. Однако оказалось, что их влияние было очень ограниченным, слишком мало позволялось удовлетворить потребности автономии, поэтому мотивация баллотироваться в советы по трудоустройству исчезала в группах сотрудников с полномочиями.
Работодатели, возможно, не побоялись предоставить слово только работникам, но потеряли контроль над ними, независимость профсоюзных активистов или трудовых советов.
Следует учитывать, что владельцы небольших компаний в настоящее время подвергаются наибольшим социальным лишениям.
Что это?
Прежде всего, они подвергаются мощному налоговому давлению, и от них можно услышать, что что бы ни случилось, они должны каждый месяц приносить налоговые сборы. Во-вторых, они считают, что великая ТНК способна обойти налоги и что государство "отпускает". Затем предприятия компенсируют профсоюзам, которых критикуют за возможность получить налоговые льготы для крупных профессиональных групп, а затем «я плачу за их пенсии». В-четвертых, повышается минимальная заработная плата, повышается заработная плата для отдельных профессиональных групп, что затрудняет сохранение занятости. В то же время все еще существуют трудности с получением хороших работников. Дело в том, что достаточно поехать в любой маленький городок, чтобы увидеть рынки, где закрыт каждый третий бизнес.
Экономическая деятельность одного человека становится все более популярной в Польше. Мы часто слышим, что это соответствует духу современного капитализма. А как же социальные проблемы? Уничтожает ли самозанятость дух участия работников?
Самозанятость в результате «вынуждения» работников снижать стоимость ведения бизнеса в настоящее время является меньшей проблемой из-за рынка труда работника. Во времена рынка труда у работодателей было тяжелое состояние: либо ты снимаешь со меня расходы, платишь собственные взносы, либо не будешь работать на меня. Это были также случаи вымогательства у работников работодателей, которые смогли отсрочить оплату труда, выплату взносов и т.д. С другой стороны, в настоящее время малые предприятия на местных рынках труда не хотят принимать на себя постоянные обязательства, которые предлагаются, в частности, работникам, имеющим важное значение для компаний.
Возвращаясь к самозанятости, которая, очевидно, не исчезает, ситуация с простыми поставщиками услуг, даже уборщиками-одиночками и другими ИТ-специалистами, которые по разным причинам могут реагировать на систему «бизнес-бизнес» (B2B). Нам, несомненно, нужны правила, защищающие людей, вынужденных заниматься самозанятостью. Ситуация на рынке труда меняется, наступает время рынка предпринимателя, и такие правила станут предупреждением для предпринимателей, повышая затраты на наем компании-одиночки. До сих пор этого не было, и это уже приняло форму чумы в некоторых отраслях, включая массовую коммуникацию.
При взгляде на профессиональные отношения может сложиться впечатление, что мы на самом деле имеем дело с войной против всех нас — по крайней мере, с чувством недоверия, отчужденности, отсутствия общности элементарных интересов.
Термин «война» может быть чрезмерным, в то время как либеральная рыночная экономика в условиях лоскутного одеяния увеличивает неопределенность и недоверие. Это отход от согласованной модели рыночной экономики, вызывает атомизацию. Частные экономические кластеры не только из Японии или Кореи, но и из Германии, Италии, Испании практически не создаются в нашей стране.
У меня была возможность несколько раз наблюдать это явление неспособности соединиться: предприниматели знали, что они увеличат свои индивидуальные успехи, работая вместе, вступая в кластер, но не были уверены друг в друге. Они встречались, планировали совместные действия, но когда идея решения пришла в голову, они разошлись.
Обычно внимание уделяется политическому измерению трансформации, но как насчет отечественного бизнеса в те времена, его отношения и социального капитала? Разве эти условия не провалились?
Начало 1990-х годов, время растущего кризиса безработицы, также является временем взрыва микропредпринимательства. Во второй половине 1980-х годов существовали препятствия для создания частного бизнеса. Барьеры исчезли в 1988 году из-за премьер-министра последнего правительства авторитарного социализма Мечислава Раковского и министра промышленности Мечислава Вильчека. 1989-1994 годы были оценены частными предпринимателями как золотые годы польского бизнеса. Просто создавалась правовая система рыночной экономики, которая рассеяла иностранный капитал, "элита прорыва" совершила глубокое дерегулирование экономических правил, экономической полиции не было. Были открыты границы, зарегистрированы многие импортно-экспортные компании. Также были начаты частные промышленные предприятия, которые извлекли выгоду из обвалов госпредприятий, производственные активы которых выкупались по низким ценам. Однако другой стороной этих золотых лет было бурное развитие экономической преступности.
У нас также была двузначная безработица, которая долго обеспечивала лояльность рабочим и рабочим. Долгое время казалось, что их можно одеть как помилование.
Картина имеет две стороны: безработица низкоквалифицированных рабочих и квалифицированных рабочих. Для второй группы высокий уровень безработицы был коротким. Предприниматели, которые вели современное производство, а их было много, быстро столкнулись с нехваткой профессионалов, которые либо выезжали за границу, либо начинали торговать или создавать микропредприятия, когда их существующие рабочие места начинали увольнять работников или обанкротились. Во время встреч частных предпринимателей я часто сталкивался с такой точкой зрения, и это было в период двузначной безработицы. Поступали сообщения о нехватке специалистов, потере профессионального образования и низкой мотивации к работе с молодежью.
Какова взаимосвязь между профсоюзами и советами работников? Почему стоит, если профсоюзы не рассматривают советы как конкуренцию?
Сегодняшние решения заставляют профсоюзы чувствовать потенциальную угрозу со стороны советов работников, используемых работодателями для игры с профсоюзами.
На практике, однако, советы работников хорошо работают только на профсоюзных предприятиях. Более 300 советов работников, которые существуют в Польше, являются советами, которые часто работают там, где работают профсоюзы. Конечно, это не всегда так.
О чем должен заботиться совет директоров, чтобы лучше мотивировать работников повышать конкурентоспособность рынка труда?
С одной стороны, это одна из ключевых проблем, рассматриваемых в теории управления работой и практически решаемых службами HRM, и я недостаточно компетентен в этой области. Мои наблюдения в секторе небольших компаний показывают, что работодатели не осознают важность моральной мотивации сотрудников, индивидуальной оценки их вклада и справедливой оценки их работы. С другой стороны, работодатели готовы видеть в работниках только материальную мотивацию и низкий уровень лояльности. Как сказал мне один из частных работодателей, он опасался моральной мотивации, потому что думал, что это вызовет у работника спрос на повышение.
Являются ли августовские соглашения — не столько буквой, сколько духом этих положений — все еще живым социальным, экономическим, метаполитическим опытом или, скорее, пережитком прошлого, заключенным в ритуальном, ежегодном праздновании?
Августовские соглашения стали кульминацией периода авторитарного социализма. Кароль Модзелевский однажды сказал, что Август был, среди прочего, представлением законопроекта реальному социализму для ожиданий, которые он поднял и которые он не оправдал. Ожидания равенства, справедливости, расширения возможностей труда. Соглашения являлись также выражением прорыночных настроений польского рабочего класса, выросшего в значительной степени из отдельных крестьянских хозяйств, в известной степени знакомого с рыночными отношениями и передающего поколениям культ хорошего хозяина. Рабочие использовали в авторитарном социализме безразличие к труду, беспорядок и расточительство, к «многоэкономике», но в то же время эти симптомы экономической патологии утомляли.
Давным-давно я написал со своим коллегой статью под названием «Что скажет великий немой», рабочий класс, у которого не было ретрансляционного канала для выявления и представления своих ценностей и ожиданий. Августовские требования и переговоры дали ответ — персонифицирующий: тогдашний крупный промышленный рабочий класс на Гданьской верфи. Ленин давал и частично принимал советы и излагал собственное видение, близкое к социальной модели или скоординированной рыночной экономике с сильной эгалитарной и национально-религиозной рысью. Дух, поскольку это не буква соглашений, уходит в память общества по второму плану, но эгалитарно-этическая модель с рыночным акцентом все еще близка к каждому пятому взрослому поляку.
Искусственный интеллект является одной из основных проблем на современном рынке труда. Вы считаете, что у нас технологическая безработица? Как новые технологии могут влиять на отношения между работниками и работодателями и самими работниками?
Вы подняли проблему, чрезвычайно актуальную в так называемом социальном дискурсе. Я выслушал несколько дебатов, в которых указывалось на существующие возмущения на рынке труда некоторых профессиональных групп. Тем не менее, похоже, что наша лоскутная экономика, по-прежнему зависящая от иностранного капитала, прольет свет, и влияние революции ИИ на наш рынок труда придет с опозданием. Но я бы не осмелился судить, какой это будет свет.
Спасибо, что поговорили..