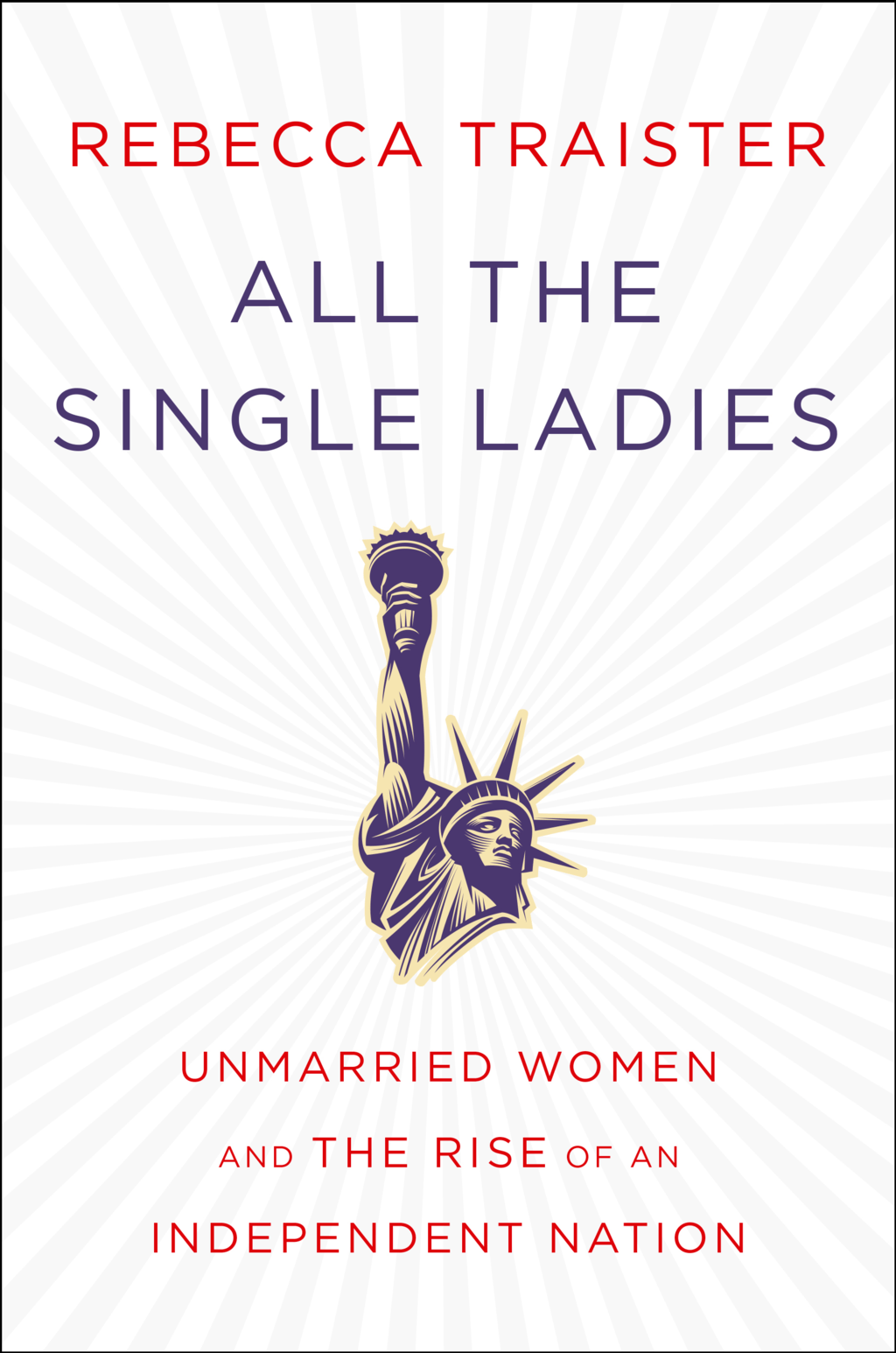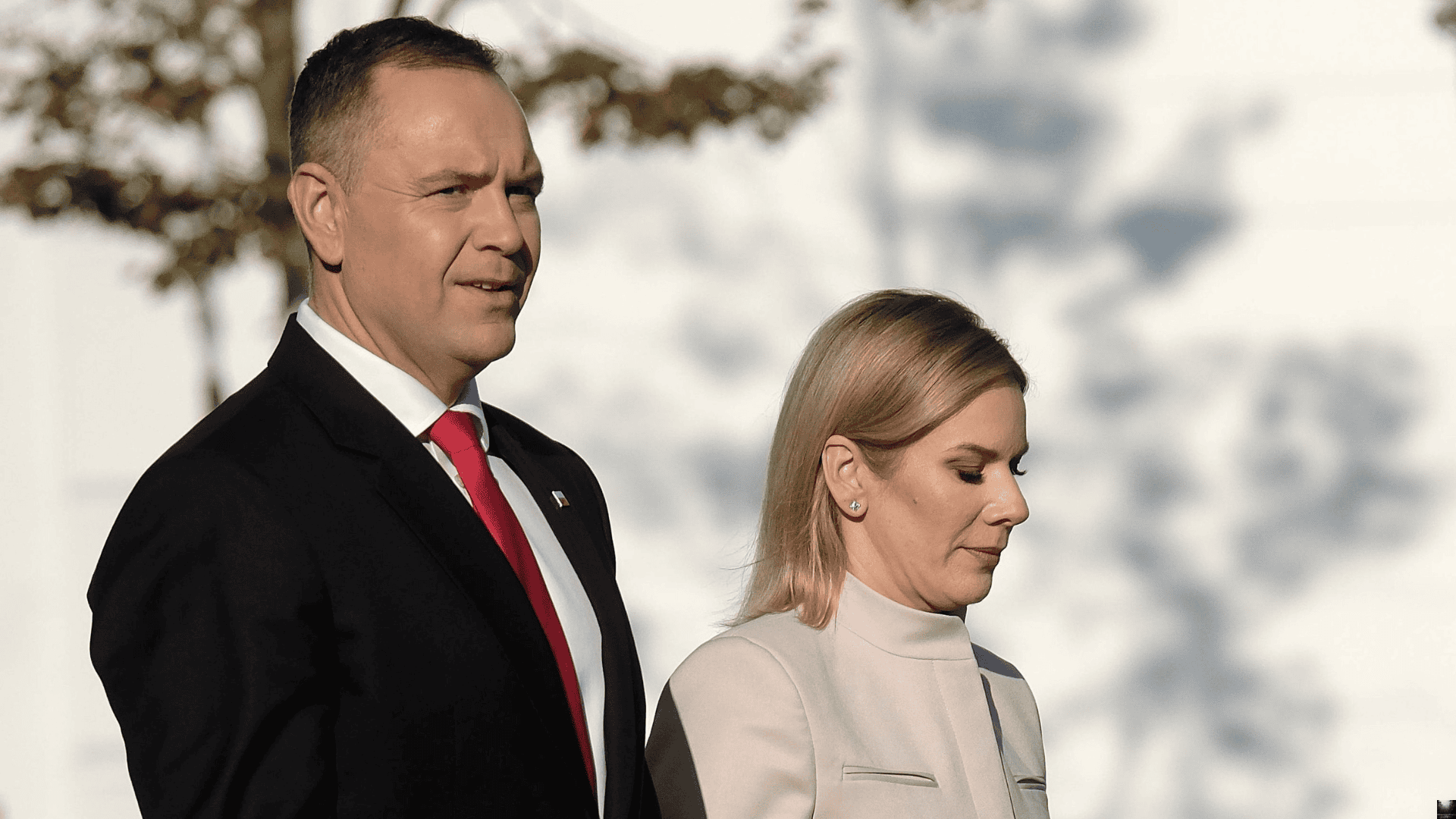Надежды и надежды государства. Вокруг аварийного выхода Рафала Мати
Автор: Krzysztof Mazur
В 1971 году Лешек Колаковский опубликовал эссе в парижской «Культуре» под названием «Тезис о надежде и безнадежности». Это была попытка интеллектуально разобраться с травмой в левых кругах, вызванной Марком. Колаковский своим эссе, несмотря на широко распространенное настроение безнадежности, хотел поощрить будущую демократическую оппозицию к созданию областей независимой мысли. Однако разработанные там требования программы должны были быть адресованы не ПЗПР, а непосредственно общественности, что усиливало давление на власть.
Почти 50 лет спустя Рафал Матыя следует тем же путем, хотя реалии совершенно иные. Опубликовав книгу,Аварийный выход ? Он хочет иметь дело интеллектуально с травмой, вызванной правительствами По и ПиС в кругах государственных деятелей. В 2005 году рухнула вера людей, рассчитывавших на серьёзную системную реформу Третьей республики. Обе стороны, на которые в то время возлагались большие надежды, предпочли взаимный политический конфликт, а не реальное изменение правил государства. Несмотря на настроение безнадежности, Матя хочет указать «элиту восприятия» на новую философию действия своей книги. Вместо того, чтобы уступить все более стерильному политическому спору, области независимой мысли, то есть сетевая структура, называемая «мозговым центром Польши». Однако требования программы, сформулированные в рамках этой структуры, должны быть адресованы не нынешним партиям, а непосредственно общественности, тем самым усиливая давление на власть. Кто бы ни был главным.
Поэтому Матия не ищет «чрезвычайного выхода» из-под власти закона и справедливости (следующий текст был опубликован в апреле 2018 года), а хочет уйти от всей логики Третьей республики. Как и Колаковский полвека назад, он отказывается от отношения «ревизионистов» к способности исправлять нашу политическую систему, оставаясь при этом внутри своей логики.
Вы должны выйти за пределы системы, чтобы увидеть новый горизонт. «Нужно еще раз все рассказать — историю, государство, идентичность политической нации, политику», — рассуждает он в последнем предложении своей книги.
Соглашение — не мафия, а социальная
Матия рассматривает текущую ситуацию в Польше с точки зрения "долгосрочной". Индивидуальные политические события менее важны, чем цивилизационные и социальные изменения. Назвать эти механизмы не дает ясной терминологии, питаясь попеременно двумя категориями, взятыми у других мыслителей. За спиной Алексиса де Токвиля он говорит о «социальном устройстве», то есть об отношениях между отдельными группами и правилах приличия, которые исчезают в данном обществе «по первой причине большинства законов, обычаев и идей, составляющих образ жизни народов». За спиной Пьера Бурдье он, в свою очередь, говорит о «духах государства», рассматриваемых политическим сообществом как естественные, бесспорные и объективные, и таким образом «составляющих современные государства у их невидимых корней».
По словам Мати, такими «духами государства», составляющими нашу «социальную систему», являются «централизм, восточные стандарты бюрократического контроля, клиентелизм, механизмы отбора кадров». Этот каталог также может быть расширен, чтобы включать в себя вопросы конфликтов поколений или шаблонов махизма в масштабах всего общества, даже если за его риторическим фасадом есть слабость и неопределенность его социальной роли. К сожалению, автор «Экстренного выхода» не распоряжается этими вопросами, хотя они играют ведущую роль в его выступлении. Поэтому читатель может только догадываться, откуда берется такая подборка «духов государства», и насколько этот каталог закрыт. Некоторые советы могут быть книгами Адама Подгорецкого «Польское общество» или Янина Р. Веделя «Частная Польша», на которые ссылается Матия в этом контексте.
Несмотря на эти двусмысленности после прочтения, мы точно знаем, что именно клиентелизм или централизм «составляют наше государство в его невидимых корнях». Это те, кто портит наши партии, а не результат этих или других правительств. Нынешняя «социальная система» возникла не в результате конфликта PO-PiS, а является результатом трех процессов, длившихся многие десятилетия: экспроприации и утраты активов польского общества в результате Второй мировой войны; возникновения эгалитарного общества в период коммунизма, «имеющего столько, сколько необходимо для собственных нужд»; и, наконец, характерного для 3-й Республики Польши процесса раздела собственности, экономической деградации целых групп (великая промышленность, ПГР, частично добыча полезных ископаемых), при одновременном продвижении других. Эти три исторических процесса, а не какая-то мифическая мафиозная система, ответственны за текущую слабость государства. Эти события сформировали нынешнюю «социальную систему».
Общество «доробкевичей»
Результатом этих наблюдений является идеализированный образ нашего общества. Чтобы пережить все это, поляки должны были сформировать, как правило, уместность процедуры, «чтобы иметь в виду свои дела, а не индивидуальные, а не коллективные действия, а не непредвзятые». Это правило в нашей жизни сегодня. Построить инклюзивное гражданское сообщество сложно, потому что доминирующим «духом государства» является аморальный семейализм. Любая попытка апеллировать к общему благу рассматривается как подозрительная попытка манипулировать и скрывать свои истинные намерения, касающиеся интересов конкретного лица или группы. Более того, по мнению некоторых исследователей, упомянутых в книге, главным двигателем действия поляков является зависть, поскольку социальный престиж строится на сравнении с другими, а мерой социального положения являются деньги. Именно поэтому такой сильный двигатель, который активирует нас, является «доробкевичем».
Несмотря на эти горькие мнения, Матия не выдвигает против польского общества никаких обвинений. Скорее, это говорит о том, что широкомасштабная деятельность по обогащению себя является здоровой и естественной реакцией на экспроприацию, осуществленную в предыдущие десятилетия. Он может стать важным двигателем для построения процветания будущих поколений. К сожалению, в реальности Третьей республики стремление к обогащению реализуется в неблагоприятных институциональных условиях, которые формируют уже упомянутый централизм, восточные стандарты бюрократического контроля или клиентелизма.
Именно эти «духи государств» делают наши таланты и трудолюбие не ключевыми в этом процессе, а «системой прихода» к состоянию «конфигурации». Самые богатые списки составлены не из людей, которые изобрели новые продукты, а из тех, кто «хорошо использовал контакты с политиками и обслуживающими людьми, доступ к кредитам».
То же самое относится и к среднему классу, который Матия называет «некреативным средним классом». Он возник не в споре с властью, а в тесном симбиозе с ней. Клиентелизм среднего класса еще больше укрепился за счет европейских фондов, основной составляющей которых стали маршалские конторы, что еще больше укрепило позиции местных элит. Поэтому Третья Республика была не в состоянии использовать естественный импульс общества для обогащения себя, чтобы способствовать духу честного труда. Взамен она дала всем нам общий урок клиентелизма, с большой потерей социального чувства справедливости.
Ни гражданский республиканизм, ни элитарный консерватизм
Поэтому ни один республиканский проект не может носить название «аварийный выход». Для этого нужен сильный средний класс, и его нельзя создать в «системе будущего», которая, по определению, вынуждает отказаться от гражданства в пользу ваших отношений с клиентами. Изменение этого соглашения не будет поддержано его бенефициарами, поскольку они предпочитают оставаться в «грязном сообществе», а не рисковать изменением. Это касается и активистов третьего сектора, поскольку, согласно теории, они функционируют независимо от государства, фактически могут развиваться только в том случае, если примут свою клиентелистскую зависимость от политического покровителя. Республиканский проект не может быть основан на тех, кто остается вне «грязного сообщества», потому что они не верят в реальную возможность перемен. Скорее, они предпочитают держаться подальше от политики, потому что ищут области, где трудолюбие и талант действительно важны, а не зависимость от принципа.
Поэтому республиканские проекты, подытожил Матия, «полны ностальгии по стране, которая больше не вернется, по модели, которая в Польше никогда не коренилась и противоречит реалиям современного государства». Эти слова должны взять, прежде всего, такую среду, как наша, которую республиканизм теряет как важную категорию мышления о общественной жизни. Действительно ли наша роль заключается в том, чтобы стимулировать воображение идеальной системы, или в том, чтобы «предсказывать невозможное»? Мы вернемся к этому.
Однако сильная критика Матия направлена не столько на польское общество, сколько на элиты, ответственные за подтасовку такого институционального устройства. Поскольку критический взгляд на польское общество позволяет Мате оспаривать реальность республиканских проектов, такой негативный образ элиты заставляет его отвергать проекты, относящиеся к консервативному элитизму. Как и в первом случае, автор обращается со своей критикой к «поколению тридцати-сорокалетних присутствующих», так на этот раз он бьет себя в грудь, делая конкретный рассказ с собственной биографией.
Мы привыкли к тому, что Матия очень широко определяет элиту: от ученых и политиков, работодателей и важных правительственных чиновников до директора больницы, епископа или президента города. Современная элита на карточках аварийного выхода описывается как дезорганизованная и лишенная социальной миссии; неспособная думать больше, чем с точки зрения собственных корпоративных интересов; паразитирующая в слабой стране лишь для того, чтобы «взять что-то для себя»; даже если разборчивая точка-точка проблем, она не видит картины целого; не способная дистанцироваться от партийного спора, а скорее «засыпающая маслом в огонь»; объективируемая политической элитой, иногда через «достоинство», в другое время из-за «страха», и эта разница лишь дело вкуса.
Именно элита несет главную ответственность за нынешнюю слабость государства. Корни этой слабости следует искать в ПНР, когда ПЗПР совместно со Службой безопасности создала систему контроля не только над оппозицией, но и над государственными структурами. Таким образом, были ослаблены такие области, как дипломатия или армия, которые в зрелых странах должны быть выведены из политической логики спора. Захват власти слабыми партиями солидарности только усугубил эту дисфункцию, поскольку оппозиция в целом доминировала над недоверием к государству.
Консервативные элиты 1990-х годов, формулирующие свой проект Четвертой республики, во главе с Рафалом Матыей, состояли в необходимости восстановить институт, создать автономию в сторону партийного соперничества и дать правовой системе конкретную аксиологию.
Логика этого проекта противоречила как посткоммунистическому соглашению, так и «духам государства», формирующим наше «общественное устройство». Вот как Матя горько отзывается о собственной биографии.
«Absolution» Качиньского
Такой диагноз состояния общества и элиты приводит к вполне шизофреническим выводам о политике. С одной стороны, автор не оставляет сомнений в своей критике как PO, так и правительств ПиС. Именно эти партии не воспользовались историческим конституционным моментом 2003—2005 годов, когда появилось общественное одобрение реального государственного восстановления, за которым последовало несколько зрелых интеллектуальных проектов. Однако лидеры этих партий предпочли использовать возможность создания биполярной партийной системы, гарантирующей им прочные позиции на годы вместо реальной государственной реформы. Вместо борьбы с ослаблением государства с деструктивной «социальной системой» они предпочитали «использовать вредные привычки в свою пользу».
При таком толковании закона и правосудия ведомство не является альтернативой правилам Третьей республики, а представляет собой «ее печальный упадок, преувеличение ее ошибок». Если "дух государства" в силе здесь - восточные стандарты бюрократического контроля, то правящая партия предложила нам, исходя из политической воли, "беременное государство", снижение роли парламента и презрение к институтам. Если нашей проблемой является клиентелизм, то Управление по вопросам права и правосудия, как и PO, рассматривали государство как «систему убийств» и большое агентство по трудоустройству. Если мы десятилетиями боролись с чрезмерным централизмом, то должны были быть предложения по еще большему сокращению местных властей. Если наша дисфункциональная «социальная система» переваривает несовершенные механизмы отбора персонала, реформа Зибра также ввела их в судебную систему. Если проблема заключается в смене поколений, Беата Шидло создала одно из старейших правительств в новейшей истории. Наконец, если в нашей культуре за риторическим фасадом прячутся мачо-паттерны, то сегодня в пропаганде, обслуживаемой общественными СМИ, найдутся те же закономерности. По словам Мати, PiS служит нам площадью Третьей республики.
С другой стороны, аварийный выход дает нам большую причину, почему другая политика невозможна. Политика Ярослава Качиньского представляет собой сочетание большой решимости и чистой рациональности, что позволяет ему делать выводы из предыдущих неудач. В начале 1990-х годов он был близок к чувствительности консервативных элит, когда построил свою партию «на основе умных формирований», за что его даже публично критиковал Ян Ольшевский. Эта стратегия из-за плохого состояния элиты привела к его поражению. Десять лет спустя, когда он установил прочный союз с католическо-народным мейнстримом, он построил одно из самых мощных политических образований. Это было похоже на средний класс. Соглашение Центра было первоначально партией с большим электоратом среди мелких предпринимателей, чем Либерально-демократический союз.
Качиньский быстро понял, однако, что его избиратели не хотели менять плохие обычаи и строить сильные институты, и история об урегулировании политиков от реальных последствий их правления может быть вставлена в сказки. Он не возмущался реальностью, но изменил свою стратегию.
Он использовал механизм клиентелизма для построения своей партии, также уделяя больше внимания вопросу символического спора, чем сфере фактов. В свою очередь, сделав выводы из институциональной слабости AWS, он поставил на руководящую партию, что обеспечило ему стабильность руководства. Рациональным выбором был и спор с самим ПО. Когда в 2002 году были созданы общие письма к самоуправлению, тогда был достигнут очень плохой результат. Это заставило лидеров двух формирований осознать, что «они могут рассчитывать на электоральную прибыль только в том случае, если находятся в жарком споре из-за всего». Наконец, три «популистских» фразы Качиньского были очень рациональными: разделение на Польшу «либеральных» и «солидарных» позволило нам выиграть выборы 2005 года; коалиция с «Самообороной» и ЛНР позволила ему взять на себя электорат этих партий; антииммиграционная и антигерманская риторика способствовала победе 2015 года.
Лидер PiS во всех этих решениях оказался безумно рациональным. Вот почему Матия в конечном итоге «жертвует» Качиньским словами: «Плохая политика не является производной от их злых персонажей». Это прежде всего обусловлено условиями, при которых они должны действовать». Качиньский не создал деструктивную «социальную систему» — он создал «социальную систему». Поступая иначе, он никогда бы не пришел к власти.
Матя Драма
Матя, следовательно, разрывается в оценке политики, которая станет нам понятна после размышлений. Все сводится к отношениям между политической властью и «социальным устройством», рассматриваемым в контексте долгосрочной перспективы. Матия-аналитик понимает, что политики для получения власти не могут играть против этих сил, а должны им подчиняться. В конце концов, как он пишет, политика в сегодняшней Польше "требует от игроков заимствования своего рода системного кредита. Признание механизмов получения поддержки в мире, привыкшем к клиентелизму, где оплачиваются рабочие места или доступ к государственным средствам. Признание определяемых средствами массовой информации механизмов конкуренции". Вот почему Матия-аналитик способен понять Качиньского и даже в известной степени «спасти его». Политику трудно обвинить его в желании получить власть и использовать в обществе «правила приличия».
В это время Матия-гражданин участвует в повествовании, но ему хотелось бы, чтобы приобретенная власть не подчинялась дисфункциональной «социальной системе», а сознательно использовалась для изменения действующих в обществе правил игры. Обеспечить, чтобы государство служило не только укреплению позиций правителей, но и борьбе с разрушительными «духами государства». И снова автор, хотя он только что отказался от иллюзии элитного консерватора, выражает сожаление, что политика использует доверие к институтам, ослабляет нашу способность сотрудничать вне разногласий, снижает нашу международную позицию, устанавливает ненадлежащие правила использования государственных средств и т.д. Матия-гражданин хотел бы верить, что "возможна другая политика".
Вот так мы дошли до «матейской драмы», которая на самом деле является драмой каждого государственного деятеля. Она распространяется между неблагоприятным «социальным устройством» прошлого и видением реформ с целью изменить это «агентство». Между аналитической способностью понимать циничные принципы, управляющие текущей политикой, и гражданским стремлением к тому, чтобы они были несколько иными. Между готовностью к занятию, которая, скорее всего, закончится неудачей или цинизмом, и бегством в «экспертность», которая, скорее всего, закончится горечью или осквернением от реальности. Проще говоря, эта государственная драма поставлена между безнадежностью истории и надеждой на будущее.
Слепой аварийный выход
Но Матя не хочет поддаваться безнадежности истории. Ведь с обложки своей книги он дает нам обещание найти заголовок "условный выход". Читатель, однако, может чувствовать разочарование после прочтения, так как обещание не покрывается.
Матия ожидает от современного государства «только» двух вещей: «эффективного института и манипулятивного, с относительно хорошо информированным общественным мнением». Он тут же добавляет, что "первому рассчитывать не на что". Почему такой категоричный суд? Оно принимает на себя утрату автором веры в положительную причинно-следственную силу политики по правилам, установленным в III Республике. Он говорит: «Созданные ими партии и правительства не могут быть инструментом для восстановления государства. Об этом судят по их зависимости от действующих правил конкуренции, а также по расположению интересов и социальных ожиданий, которые они должны учитывать». Итак, опять же, «социальное устройство» — это решение! Качиньский не единственный, кто стоит на пути к лучшей политике. Избиратели этого не хотят. Партия, которая после победных выборов проинформирует своих членов и избирателей о том, что не поддержит "свою", тут же потеряет связь со своей социальной базой.
Поэтому оно остается «хорошо информированным» и «манипулируемым» общественным мнением. Поэтому «аварийный выход» должен быть «элитой восприятия». Матия обозначил необходимость создания рабочей структуры под названием «мозговой центр Польши», которая объединила бы существующую интеллектуальную среду и людей с более широким признанием проблем, стоящих перед нашей страной.
Такая сеть должна иметь несколько особенностей. Поднять «из средств массовой информации и политических центров тяжести» как политическую «привлекательность» там слишком сильно влияет. Будьте рассредоточены и децентрализованы, то есть выходите далеко за пределы Варшавы, основываясь на «контактных пунктах, действующих в нескольких десятках городов». Будьте открыты для всех, кто хочет дать отпор по существу; работайте вместе над ключевыми решениями. Поддержку получат СМИ, которые иерархизируют и организуют эту работу. Наконец, будьте свободны от любых личных связей.
Матя не питает иллюзий, что политикам будет выгодна работа такой сети, потому что они в ней не заинтересованы. Однако она считает, что может «влиять на то, как воспринимаются проблемы». Возможно, в кризисных ситуациях он будет обращаться к людям из такой сети, как «сервисеры» компьютерных сетей, страниц или серверов, когда у компаний возникают проблемы с их системами. Таким образом, «Think-tank Poland» может выполнять функцию «поставщика услуг», когда политическая система III Республики приостанавливается.
Жаль только, что поверить в создание такой сети после прочтения "Экстренного выхода" очень сложно. Ведь читатель так много читал о дезорганизованных и развлекаемых социальных миссиях элит, что не понимает, почему на этот раз они должны слиться снизу вверх в "мозговой центр Польши"! В книге также ничего не говорится о финансировании такой структуры, и это ключевой вопрос для успеха проекта. Я не думаю, что можно рассчитывать на финансирование из государственных грантов, потому что они находятся в руках политической элиты. И нет никакой особой иллюзии, что она сможет выдержать себя благодаря щедрости, все еще остающейся на «некреативном среднем классе». Наконец, у нас также не должно быть иллюзий относительно того, как средства массовой информации, критикуемые автором, будут относиться к этому проекту. Речь идет не только о биполярном образе мира, который они создают. Речь также идет о невозможности прорваться сквозь занимательный мешок, который они обслуживают. Ведь сам Матия отмечает, что "с содержательной пресс-конференции по экологии или региональной политике ничто не проникнет в СМИ, и каждый инфантильный розыгрыш имеет шанс неоднократно оказаться в них". В такой «социальной системе» не может быть создан «мозговой центр Польши».
И это самая большая проблема с книгой Мати. Хорошо написанные, хорошо наметившие основные проблемы, стоящие перед Польшей, очень проницательные, иногда даже безжалостные в критике. Только это название не соответствует содержанию. Словно Матия-гражданин не захотел признаться Матия-аналитику, что "чрезвычайного выхода" нет. Однако «социальная система», сформированная нашей историей, делает «другую политику невозможной». Безнадежность, несомненно, господствует над всякой надеждой.
Какой путь к аварийному выходу?
Однако попробуем защитить Матю-гражданку от Матю-аналитика, ищущего вдохновения в этом эссе Колаковского. Фундаментальным значением его аргумента было убеждение, что пластичность польской системы PRL больше, чем принято считать. Добавляя надежду к среде сопротивления, он указал, что каждая из них — даже с появлением самой жесткой и неальтернативной системы — имеет в себе естественные противоречия, которые следует признать и использовать. Вопрос сознания очень важен. Неизменность системы основана на убеждении, что любые изменения невозможны. Однако, если граждане однажды усомнятся в этой догме, это может привести к далеко идущим последствиям.
Это признание почти полвека назад не утратило своей актуальности, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы оказались. Ярослав Качиньский, как «последний революционер Третьей Республики Польши», привел к своим решениям, когда дальнейший пересмотр нашей политической системы не может состояться по нынешним правилам. Как отметил Яцек Соколовский, мы оказались в ситуации, когда наша конституция утратила былую функцию. Основной закон состоит не только из письменных стандартов, но и из "группы людей и учреждений, которые широко рассматриваются как исключающие толкование этого акта. Однако в ходе революции легитимность этих органов и людей была отрицаема. Теперь каждый может утверждать, что данная вещь конституционна или нет, потому что нет более всеобщего согласия среди поляков, которые компетентны говорить, что конституционно. "
Таким образом, мы имеем ситуацию, когда, по сути, конституция перестала работать и в то же время никаких новых правил взамен предложено не было.
Поэтому III Республика особенно уязвима для изменений. Мы не знаем, как долго будет продолжаться инерция. Однако мы знаем, что через год, пять, десять лет необходимо будет установить новые правила, действующие. Наша страна должна придумать новую идею.
Тем не менее, эти изменения не могут быть разработаны в архи-разведывательном дизайне. Они должны развиваться совершенно по-новому. Матия справедливо отмечает, что работу над новыми правилами игры необходимо начать с признания «социальной системы», составляющей наше общество с невидимыми корнями. Однако ошибочно предполагать, что это общество однородно, детерминировано и что в нем нет положительных элементов, которые можно было бы использовать для перемен. Матия-аналитик прав, что политики для того, чтобы получить власть, не могут играть полностью против «социальной системы». Однако Матя-гражданин ошибочно приходит к выводу, что политика не может быть инструментом для восстановления государства.
Скорее, правильной стратегией должно быть выявление таких групп в польском обществе, которые дискриминируются сегодня из-за действующей «социальной системы» и с радостью поддержат заслуживающий доверия проект смены государства. Только их политическая эмансипация путем реализации собственной позиции, а затем объединения их группового интереса с государственным мышлением может придать такому проекту социальную нагрузку. Сила любого движения за перемены, даже на примере феминистского движения, заключается в правильном признании социальных проблем с заслуживающим доверия проектом изменения, неотъемлемым элементом которого является обещание четкого улучшения жизненной ситуации конкретной группы. Такой построенный проект можно рассматривать только с точки зрения заслуживающего доверия "чрезвычайного выхода".
Сохранение «государственных духов» ?
Образец такого рассуждения можно провести на «духах государства», указанных Матей, — не решая, насколько этот каталог действительно содержит все наши социальные проблемы.
Начнем с централизма, потому что это, кажется, самый простой случай. Есть могущественная группа людей, или, может быть, лучше сказать — города, которые каждый год теряют из-за этого «духа» реальные жизни. Профессор. Пшемыслав Слесинский в интервью сайту clubjagiellonski.pl сказал, что «после 1990 года политика развития, реализуемая последующими правительствами, была поставлена на крупные мегаполисы». Эта тенденция еще более усилилась после административной реформы 1999 года. В результате крупные города «пошли очень вперед» за счет средних городов, которых в Польше 255. Поэтому есть мощная группа граждан, которые теряют свой централизм и готовы поддержать перемены в этой области. Это было создание такого социального «дегломерационного лобби», которое Петр Тржедовский недавно предложил от нашего имени. Энтузиазм и вовлеченность местных элит, которые были спровоцированы нашей первой инициативой по деглобализации, направленной на один из средних городов, показывает, что в этой теме мы действительно можем рассчитывать на построение какой-то сверхпартийной сети.
Если централизм и дальше с нами крепко держится, то это прежде всего из-за партийного централизма. Четыре года назад мы рассматривали эту проблему, анализируя секрет успеха пяти новых тогдашних городских президентов. В то время мы узнали историю Марка Матерека, молодого президента Стараховице, чья карьера в PO была жестоко прервана партийной договоренностью. В докладе показано, что партийные центры также рассматривают местных лидеров с реальными достижениями для своих местных общин как смертельную угрозу в других городах.
Именно поэтому мы выступали за изменение философии деятельности партии путем расширения прав и возможностей первичной «партийной ячейки», что позволило бы местным лидерам выстраивать свою позицию на авторитете своих избирателей, а не зависеть «от верховой езды на вашей милости». Изменение функционирования партии также должно быть частью пересмотра избирательного кодекса Сейма путем восстановления пассивного избирательного закона, который должен дать реальную возможность кандидатам, не связанным с какой-либо политической партией, что рекомендовано в их докладе ОБСЕ.
Партийный централизм сегодня поражает мощную группу социальных лидеров, лидеров самоуправления, активистов и местных партийных активистов - как тех, кто все еще активен, так и тех, кто в последние годы обескуражен и "наказан" вне системы. Эта группа ждет заслуживающего доверия проекта по изменению правил отбора кадров в политике.
Поколение высокогорья ждет политической инициации
Установление справедливых правил продвижения по службе, в свою очередь, напрямую связано с изменением поколений. Именно люди, вступающие во взрослую жизнь после системной трансформации, проигрывают на «блоке поколений». Между тем, в нашей социальной и экономической жизни поколение демографического бума, ежегодники, родившиеся между 1975 и 1985 годами, начинают играть все более важную роль. Сегодня эти люди, которым около 40 лет, являются сотрудниками среднего звена многих предприятий, университетов, министерств, социальных организаций, СМИ и больниц.
Глядя на портрет этого поколения, даже если он хорошо описан Паулиной Уилк в «Особых персонажах», мы увидим очень характерные обстоятельства, в которых он функционирует. Она «зажата» между поколениями «Солидарности» и НЗС, которые дошли до «великой руки» и «поколения Y», которое не хочет слишком долго ждать профессионального успеха. В отличие от своих немного более старых коллег, она будет оказывать все большее давление на существующую социальную иерархию.
Примирение деликатности и правильности этих разных поколений сегодня представляет собой центральную проблему, с которой ежедневно сталкивается большинство компаний и учреждений. Именно генерация демографического бума может сыграть ключевую роль в этом процессе, потому что, если верить описанию Вольфа, она хочет установить новые правила продвижения по службе.
В отличие от предыдущих поколений, он ценит гораздо более существенные вопросы, чем знания. В отличие от молодого поколения, он понимает важность межличностного сотрудничества и готов много работать для долгосрочного эффекта. Несмотря на то, что это остается «большой отсутствующей политикой», избирательные предпочтения этого поколения также будут определять результат выборов в течение следующих двух десятилетий. Его политические «особые признаки» представляют большой интерес: разочарование в государстве и политическом классе; сомнение в социальной иерархии, где «помазание» старейшин определяет все; поиск путей «быть вместе, а не друг против друга»; стремление к таким понятиям, как «общественное благо, право государства, общие интересы». Если портрет Уилка верен, то генерация демографических бумов может стать мощным союзником в борьбе с негативным «социальным устройством».
Восточные стандарты не выдержат конкуренции
Другим «духом государства» являются восточные стандарты бюрократического контроля, включающие как губительное законодательство, так и слабость государственных институтов. Этот случай имеет решающее значение, потому что административный арбитраж требует всей энергии для работы. Это испытал каждый, кто прошел контроль, сделанный с явно «плохой волей». Не имеет значения, был ли это налоговый контроль в частной компании, проверка реализации государственного гранта в социальной организации или контроль НИК в одном из отделений государственной администрации.
Если проверки проводятся по "восточным стандартам" - то есть дают контролерам огромное поле интерпретации - то наша судьба помещается в руки чиновника, который одним решением может оспорить годы нашей работы.
Поэтому Соколовский прав в том, что «невозможно управлять современной, безумно сложной страной и контролировать современную, сложную социальную жизнь исключительно с помощью административного механизма. Тоталитарные системы пытались и разрушались. Они падали не потому, что были плохими, а потому, что были менее эффективными». Напротив, современное государство должно делегировать судьям возможность толковать закон таким образом, чтобы «адаптировать их конкретными постановлениями к изменяющимся потребностям и социальным ожиданиям».
Восточные стандарты управления служат только политическому и бюрократическому классу, поскольку они дают ему особые прерогативы. Однако все активные и уважающие себя граждане, от частных предпринимателей до социальных работников, должны отказаться от них. Поддержку такому изменению должна оказать и правовая элита, которая ближе к модели Западного государства, основанной на авторитете судьи, чем к модели Восточного государства, основанной на авторитете чиновника.
Эмпатия в «махизме»
Матия также указывает на разрушительное влияние «мацизма» как культурного образца, который за риторическим фасадом силы скрывает собственную слабость. Этимология этого слова указывает на то, что оно должно быть в первую очередь проблемой «мужского элемента души», и ответом на некую женскую эмансипацию. Однако это лишь домыслы, так как автор «Экстренного выхода» не развивает эту тему.
Я все больше убеждаюсь в том, что видение гендерного спора, которое нам дали СМИ – между солдатами, которые якобы смотрят на солдат Проклятых мужчин, которые не уверены в своей силе, и сильными женщинами, которые видят своего главного врага в ПиС и Католической церкви – это какая-то ужасная мистификация. Я не нахожу реальных проблем с родственниками и друзьями в этом споре.
Если они обеспокоены, это скорее чувство, что они должны бороться с растущим разочарованием и потерей стабильных семейных и социальных связей. Они обеспокоены все более жестокими изменениями в цивилизации и технологиях. Самое главное, страдают больше всего их дети, которые, как показывают исследования, находятся в "психическом беспорядке". Депрессивные симптомы проявляются у каждого пятого 15-летнего варшавца. За три года число подростков, пытающихся покончить с собой, также увеличилось на треть.
Трудно увидеть прямую связь между этими реальными социальными проблемами и культом Проклятых Солдатов или спором об абортах. Однако я считаю, что серьезные социальные дебаты по этим вопросам находят все более и более заинтересованными. Достаточно упомянуть, что на нашем портале, посвященном прежде всего политике, набирает все большую популярность... статьи, посвященные вызовам цивилизации. Стабильность брака, зависимость от новых медиа или душевное состояние молодого поколения – это темы, которые волнуют многих людей в республике больше, чем партийные толчки или даже детали важных реформ. Честное, тонкое и чуткое их разоблачение и обсуждение имеют шанс ослабить «могущество» как действительный культурный код в нашей «социальной системе».
Клиентизм наш универсальный
Наконец, я оставил вопросы клиентелизма, потому что этот «дух государства», вероятно, является нашей самой большой проблемой сообщества.
С одной стороны, на уровне декларации все отвергают механизм построения сети экономических влияний для политической поддержки. С другой стороны, многие из нас действительно ожидают, что, если они победят, наша судьба улучшится. Потому что будет легче получить государственный контракт, грант на исследования, грант на социальную организацию или просто если он не будет оплачиваться достойно, это будет стабильная работа.
Противники получают власть и начинают «свое» предоставление государственных средств — мы выражаем нашу оппозицию. Карта оборачивается и «наша» начинает править — мы выстраиваемся в очередь и ищем «доступ». Это самый большой парадокс клиентелизма: все хотят его изменить, пока им не правит близкая команда. Когда ситуация меняется, мы признаем клиентелизм естественным элементом демократии.
При этом этот «дух государства» губителен не только для политики, но и для всей общественной жизни. В «Капитализме Анджея Сахаджа» можно прочитать, что «в политике и бизнесе стоит играть честно только тогда, когда все играют честно». Тогда это рационально, потому что может быть успешным. Однако если кто-то играет несправедливо и не наказывается, что более того, преуспевает, то путь к деморализации открыт. Если все готовы играть несправедливо заранее, деморализация достигает своего апогея». Вот так выглядит политическая конкуренция в Третьей республике.
Как ты с этим борешься? Ответ тривиально прост в написании и трагически сложен в исполнении. Они должны — если не в самом сердце политики, то на ее окраинах — существовать среды, которые будут заботиться о меньшей зависимости от клиентелистских сетей. У них нет шансов в долгосрочной перспективе добиться политического успеха, но стремление к некоторой независимости может парадоксальным образом гарантировать им более длительную институциональную жизнь, чем другим политическим центрам. Именно они способны более содержательно и достоверно сформулировать ожидания политического мейнстрима и отречься от его представителей, когда они «летают за пределы группы». Более длительный срок существования таких центров также может в долгосрочной перспективе изменить точку зрения тех граждан, которые решили войти в мир жесткой политики и только что были разочарованы вездесущим клиентелизмом и отсутствием причин, которые они там испытали.
Такой идеалистический, почти утопический сценарий объединения этих людей и продвижения справедливых правил игры мы пытаемся реализовать в жагеллонском клубе. Однако мы понимаем, что наши усилия — это капля в море нужды. Все, что нам нужно сделать, это верить в то, что такая среда, которая продвигает справедливые принципы в политике и экономике, будет расти. Иначе мы никогда не избавимся от дьявольской власти клиентелизма.
Надежда на невозможное
Чтение результатов чрезвычайной ситуации оставляет горький вкус. Матия болезненно напоминает, что быть государственным человеком в современной Польше — это игра против текущих тенденций, потому что эта модель мышления о политике не соответствует «социальной системе», развитой в нашем 20-м веке. Думая о политике как о силовой игре, мы должны «использовать злую мораль на благо самих себя», а не тратить свою жизнь на «постулирование невозможного». Тем не менее, в конце его пути у нас неизбежно возникнет нигилизм отказа от всякой надежды. Современная политика усиливает наши страхи, а не дает нам повод для оптимизма.
Поэтому я предпочитаю оставаться с сомнительной надеждой, что трагическая история не в полной мере определяет нас. Польское общество гораздо разнообразнее, чем предполагалось. Он может идентифицировать очень многочисленные группы, дискриминируемые из-за действующей «социальной системы», готовой поддержать заслуживающий доверия проект по изменению государства. Политика может быть «деловой» борьбой, а не просто «против кого-то». Наконец, мы вступили в период «межоборудования», разделяющего последовательные фазы современности, поэтому сегодня недостаточно просто следовать за Западом, а искать с ним новые решения. Это дает нам совершенно новое поле для маневра.
Согласен, что республиканизм – это игра против трендов. История учит, однако, что победа может быть достигнута, играя таким образом в эпоху солнцестояния. Пусть это будет «возвратный выход», который мы ищем, даже если он используется только в моменты кризиса, когда здание действительно начинает трястись на рабочих местах.
- Текст был первоначально выпущен в апреле 2018 года в KJ. Я благодарю Петра Кащишина за его разрешение сделать его доступным.
- Кшиштоф Мазур – президент Ягеллонского клуба с 2007 по 2012 и 2015-2018 годы; создатель социальных проектов (в том числе Академии современного патриотизма) и рассказывает о Польше и мире на канале YT «Геоэкономика»; Он не из Кракова.