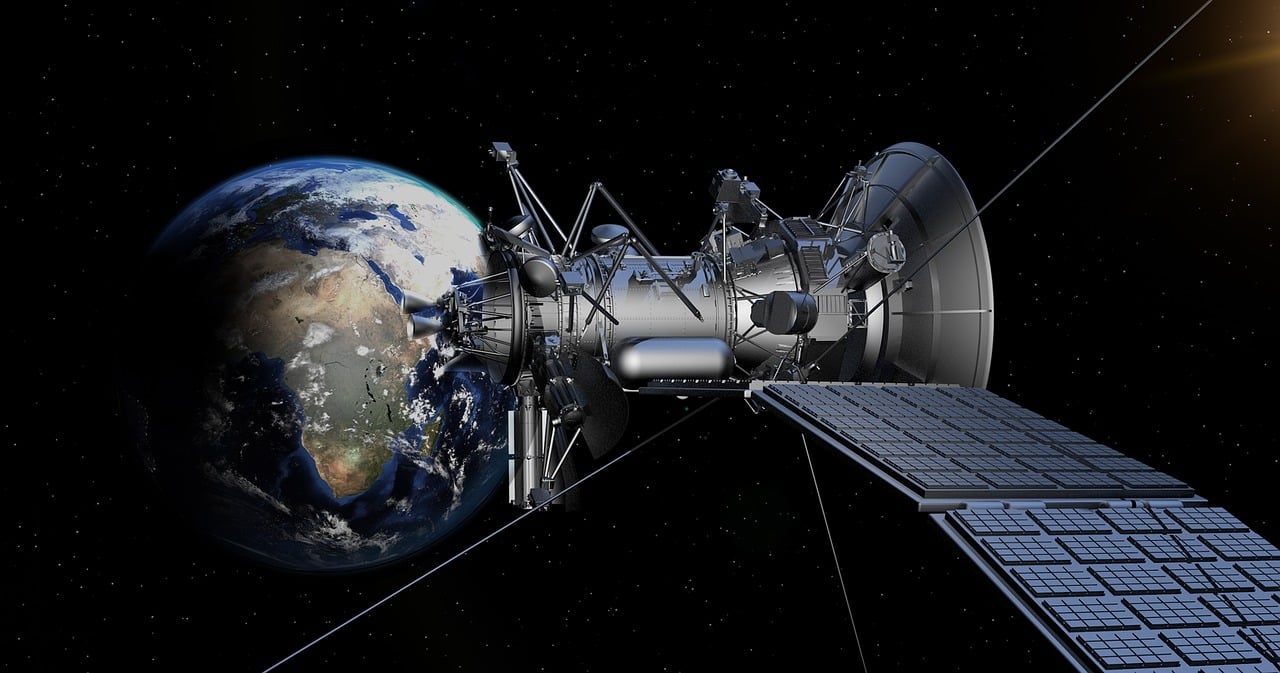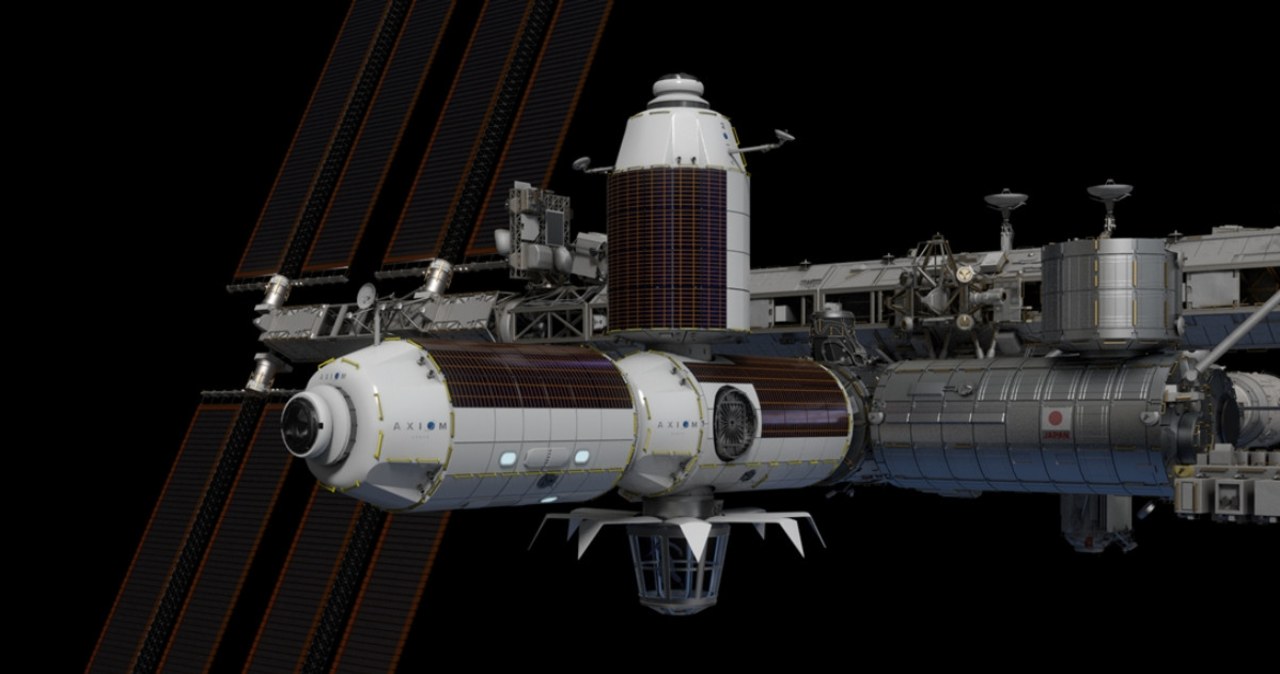24 февраля 2022 года в 3:55 утра президент России Владимир Путин в послании нации рассказал о военной спецоперации. Через несколько минут началось вторжение России на Украину. Мы все проснулись в новой, ужасающей, военной реальности. Реальность, которая продолжается и приносит тысячи жертв. Это всего лишь год интенсивных боев, героических действий и драматических переживаний. «Хотя никакие слова не отдадут того, что происходит за пределами нашей восточной границы, мы хотим говорить об этих страданиях и об этом мужестве, потому что, хотя мы можем сделать так много для тех, кто воюет и умирает — для свободы и мира не только Украины», — сказал он.
В войне нет ничего от женщины?
Дорота: Это в основном мужской мир, но в войне есть и женщина. И некоторые из нас на фронте. Я также говорю об украинских девушках.
Свиатлана Алексиевич говорит, что женщина по-разному помнит войну: цвет, запах, вкус. Как пахнет эта война?
Эта война пахнет пылью и горением. Рядом с фронтом можно почувствовать запах горящих остатков зданий, материалов. Я больше не чувствую крови.
Вам знаком этот запах?
Думаю, да. Помню, когда мне привезли двух солдат. Я был в двух километрах от линии фронта, и мне приказали идти с первым. Он наступил на мину, без конечностей. Я был весь в крови, и скорая тоже. Везде были грязь и кровь.
Я не снимал его ботинок, я боялся, что сниму ногу. Его параметры снижались. Я ввел анестезию, затем морфин. Он начал немного улучшаться. Его крик, его кровь. Я был один. Только по пути ко мне добрался украинский фельдшер. Но я сделал это. Все, что мне нужно было сделать, это перестать думать и вести себя как робот.
Когда мы отвезли его в больницу, все было в той машине скорой помощи. Коробка сгорела, но я сказал водителю не останавливаться. Это сработало: я отвез живого солдата в больницу.
А что насчет другого парня?
Они даже не позволили мне отвезти другого в скорую. Когда я посадил в больницу солдата, который вошел в шахту, я увидел командира. Я побежал и увидел в его глазах, что другой провалился. Он умер на руках моего командира. За пять минут до больницы.
Я помогла положить его тело в черный мешок. Он был из нашего батальона, но из другой группы. Я попрощался с нами. Я положил сумку. Это все еще в моей голове. Может быть, если они позволят нам взять их двоих... Я все еще думаю об этом. У него был 10-процентный шанс на выживание, но это всегда 10 процентов.
Это был самый трудный случай?
Нет, был мальчик, у которого не было обеих рук, сверху был мозг. Он умер, мы даже не доставили его в скорую. У него не было шансов.
Ты ждешь сигнала. Они звонят забрать двух тяжелораненых солдат. Что ты делаешь?
Первое, что мы должны сделать, это уйти из укрытия. Потому что все эти машины спрятаны в лесу, покрыты ветками. Мы должны быть замаскированы. Мы тоже в зоне огня. Мы уходим и ждем на открытом поле, когда прибудут солдаты. И тогда риск тоже выше. Мне нужно успокоиться. Я просто проверяю, нет ли у меня дел.
Что это?
Морфин, анестетики, повязки, специальные повязки для огнестрельных ранений, репа – основы. Это скорая помощь с основным оборудованием, все от добровольцев. Облегчение боли, геморрагическое подавление — это все, что я могу сделать.
Каково путешествие?
До больницы обычно около 30 километров, но мы знаем, что такое дороги. Это беспроигрышная поездка. Условия в машинах скорой помощи ужасные. Иногда мы ездим на обычном пикапе, а потом я получаю лекарства в коробках.
Пикап лучше работает на поле. Вот так. Солдат должен быть жив, несмотря ни на что, по дороге я ударю его 10 ударами. Водитель едет как можно быстрее. Иногда есть ремни, но закрепить их невозможно. Иногда мы летаем вокруг машины скорой помощи. Однажды я отказал пациенту.
Вы работаете механически? Значит ли это, что вы не допускаете никаких эмоций?
В действии я веду себя как робот. Но на следующий день я в машине скорой помощи жду звонка, все возвращается. Человек мысли.
Как мы с этим справимся?
Иногда мне приходится кричать, плакать. У меня не должно быть сердца, чтобы выключить эмоции. Но если бы у меня не было сердца и чувств, меня бы здесь не было. У меня была бы нормальная, спокойная жизнь: веселье, отпуск.
В таком мире, как этот, ты можешь плакать?
Да, можешь.
Разве они не думают, что это слабость?
Сначала я плакала за свою семью, за своих детей. Но я держала его внутри, и не хотела, чтобы кто-нибудь видел мои слезы. Я боялся, что они скажут: «Она вошла и заплакала».
Мужчины тоже плачут, и они не могут этого принять. Иногда другого пути нет. Мы видим, что они сделали с солдатами, как они вырезали тела... Когда мирные жители говорят нам, что они с ними сделали, дети... Мы придерживаемся их, но потом человек уходит, и иногда у всех нас на глазах слезы.
У вас есть какая-то картинка в голове прямо сейчас?
Я помню, как видел тела в освобожденной от оккупации деревне: тела детей, гражданских лиц, головы солдат, торчащих из земли, связанные проводами. Они были похоронены заживо. И это было худшее. Когда я говорю вам это, я вижу все. Это не по телевизору. Сейчас я в третий раз в Польше, поэтому вижу, что они показывают.
Вы видите новую войну?
Да, может быть, 10% того, что происходит в Украине. Как будто я в другом месте.
Что говорят люди, жившие под российской оккупацией?
Они плачут, спасибо, обнимите нас. Тогда никто не скрывает эмоции, мы все плачем вместе. Мы смеемся, это такой коллективный крик.
Эти люди в основном рассказывают, что русские сделали с женщинами и маленькими детьми. Это в основном изнасилование. Они даже взяли нижнее белье, штаны. Иногда семья была дома, и они насиловали мать на глазах у детей, а детей насиловали на глазах у семьи. Иногда родители прикладывали оружие к голове. Когда он был отцом и хотел защитить свою семью, его застрелили.
Часто эти люди также говорят о разрушенных домах, хотя материальные вещи для них уже не актуальны. У русских отнимают что-то более ценное - достоинство. Эти женщины и дети из торгового автомата нуждаются в уходе.
Они поняли?
Они не получат его, если не уедут в большой город, на курорт. Хотя людей там много, и врачи знают - для лечения. Кто-то с минимальной подготовкой полезен на фронте. Эти врачи не остаются в психологических или психиатрических службах.
Больше всего страдают дети?
Да, я самый расстроенный. В их глазах пустота и ужас. Каждый большой взрыв — не обязательно ракеты — реагирует со страхом. Я видел в Харькове ребенка из оккупированного села. Дверь захлопнулась, и она заняла безопасное положение, или бросилась на землю, закрыв голову и уши, чтобы прикрыть лицо. Мама только что сказала ему: "Вставай, это просто дверь".
И эти дети реагируют на каждый громкий звук. Они все друг о друге. В их глазах ничего нет. Иногда они улыбаются, но это скорее торговый автомат, чтобы расплатиться за игрушки или сладости.
Это все, что мы можем для них сделать. Мы пытаемся убедить родителей, которые живут с детьми в деревнях, близких к фронту, бежать.
Они не двигаются?
Разные, но в основном нет. Мы не можем заставить их, загнать их в машину и отогнать. Мы им объясняем, что если в двух километрах от села находятся русские, то известно, что Украина не будет стрелять. Потому что он может случайно напасть на своего.
Как вы попали на фронт?
Когда началась война на Украине, я работал в компании в основном с украинцами. Печаль, отчаяние. Производственной линии в тот день не было. Мы начали привозить их семьи в Польшу. Они подошли к границе, пересекли ее, и мы их доставили. Компания арендовала целый большой дом. Там проживало несколько или десятки человек. Мы занимались сбором средств, отсевом. Вот с чего все началось.
Потом я начал ехать на границу с сестрой и зятем. Мы помогали в центрах для беженцев, например в Пшемысле. Там было сделано все: мытье полов, приготовление пищи, уход за детьми, пожилыми людьми. Мы все делали за свой счет.
Мы с сестрой однажды ездили в Украину, потому что одна девушка из Facebook спросила, можем ли мы пойти за животными. Это был Владимир Волынский, в 15 километрах от границы.
Мы только что видели, что происходит на другой стороне. У нас был инклюзивный вариант: еда, кофе, чай, одежда. А с другой стороны, кофе и чай были роскошью. Была зима, и эти люди несколько десятков часов ждали на границе. Именно тогда я решил, что мне нужно больше участвовать и помогать.
Но они не хотели тебя сначала?
Они не хотели видеть меня в двух батальонах, потому что они объяснили, что не берут женщин.
Ты не думал, что я оставлю это в покое?
Я мог бы подумать об этом в любом случае, но когда я пошел к солдатам с помощью, и я спросил их, что им нужно, что сказали другие батальоны: только медики.
И я фельдшер. И эта лампа постоянно горела в моей голове. Яснее и яснее. Я говорю, что попробую. Я также знал, что могу уйти из легионов в любое время без последствий.
Наконец, через свои связи я добрался до мальчика из «Азова» и через него — командира. Он позвонил мне, дал мне два часа, чтобы собрать вещи. Запланировал гуманитарную помощь в Запорожье и окрестностях. Я не знал, сказать ли ему. Я боялся, что этот шанс больше никогда не повторится. Наконец, я сказал, что у меня запланирована неделя, и никто не сделает это за меня. Он сказал: «Хорошо, когда ты вернешься, позвони мне».
Я сделал то, что должен был сделать, и ситуация повторилась. Он позвонил в 11:00 и сказал, что они будут преследовать меня в 1:00. Мне пришлось закрыть все приложения, место на телефоне. Они забрали меня. Я даже не знал где. Я не узнала, пока не попала туда от друзей.
Что ты взял с собой?
Я взяла американскую форму, которую получила от Украинского фонда, работающего в Варшаве. Я также упаковал две пары штанов, несколько футболок, одну толстовку, пару обуви. Я подтолкнул основные косметические и чистящие средства: зубную щетку, прокладки, гель для душа, полотенце, помаду. Даже не фонд, хотя я знал, что это не пригодится. Но я взял женщину.
Я также носил браслеты, которые носил как волонтер, на гвоздях гибрида. Но когда командир увидел меня, он сказал: «Не жужжь, не сияй, сними его быстро». Он просто позволил мне оставить цепь на моей шее, потому что я получила ее от своих детей.
У меня тоже был нежный макияж. Командир не знал, как мне сказать, поэтому он сказал: «Поляки настолько красивы, что им не нужно рисовать».
Какова жизнь в таком батальоне?
Правильно – нужно мыться, время от времени есть, куда-то идти. В первом батальоне снаружи была душевая кабина — грим, сделанный мальчиками. Я шел в душ, а другой солдат стоял там, наблюдая за мной, чтобы другие не смотрели на меня сверху или бок о бок. Когда это была вода, это была роскошь.
Иногда мы используем влажные салфетки. Нас часто принимают в украинских домах. Они приглашают, говорят: «Вы для нас, так что приходите, устраивайтесь, живите с нами». Если на ферме есть туалет, мы его используем. Если его здесь нет, он идет в лес, берет лопату и хоронит себя.
Если мы на позиции, там стоят парни, и мне нужно пописать, я говорю: "Все, повернитесь и не смотрите". И я писаю, и они все стоят сзади. «Если кто-то из них обернется, я выстрелю», — смеюсь я. Потому что с оружием мы никогда не расстаемся.
Как вы можете справиться в таком мужественном мире?
Сначала мне пришлось все объяснять, потому что были улыбки. Как мужчины для женщин... Это объясняет, что я их друг. «Друг, коллега, коллега», — повторяю я. Командир также сказал, что если у меня возникнут какие-то странные ситуации, я должен сообщить о них ему. Он объяснил им: «Ты солдат, их друг, ты одна команда».
Я просто шутила. Вот как это работает. Я держался на расстоянии, и они знали, что то, что они не делают, ничего не сделает. Иногда мне приходится кричать, но когда я начинаю ругаться по-польски, они знают, что это такое. Они собираются сказать: "Дайте мне пять минут, скоро все уберут".
Если у меня что-нибудь будет, я буду готовить. Если мы найдем какие-то ингредиенты для обычных пирогов, мы это сделаем. Обычно мы едим китайский суп. Когда она затоплена, это не одна, это десять чашек. Здесь люди могут быть вместе. Мы делим последний кусок хлеба. Мы должны быть последовательными, это единственный способ двигаться вперед.
Как эта война изменила вас?
Я воюю с августа, шестого месяца. Мое отношение к жизни изменилось. Я переоценил все. Я знаю, что жизнь - это самое важное. Материальные блага: лучший автомобиль, одежда, роскошь, поездки, бары, мероприятия – все это перестало иметь значение.
Я понял, что бабушка говорила: "Не трать еду". Она тоже пережила войну, и теперь, когда не хватает еды, я помню, что она сказала.
Недавно у нас кончилась вода и пришлось пить воду из колодца, где российские тела лежали в 15-20 метрах. Эту воду мы пили после кипячения несколько раз, после введения таблеток на лечение. Мы не знали, чем это закончится. Нам не нужно было есть, но мы должны пить, потому что где мы получаем силу?
У многих солдат симптомы ПТСР?
Да, я вижу это. Есть те, кто не был дома с начала войны. Свяжитесь с семьей по телефону, если это возможно. Некоторые люди не могут принять это мысленно и отправляются. Они получают месяц от торгового автомата. Не домой, а за психологической поддержкой. Такой солдат представляет угрозу для себя и своих коллег. Он вышел, он не думает, у него винтовка. Он делает странные вещи. Экстрасенс сидит.
Что происходит, когда погибает батальонный товарищ?
Я попрощался с двумя друзьями. Одна вещь, которую я не узнал лично, мы связались только по телефону. Я относился к другому как к брату, здесь мы все говорим друг о друге: сестра, брат. Мы держимся вместе. Когда я узнал об этой смерти, я просто не мог контролировать себя. Я тоже не мог контролировать свой крик. Это была ужасная пустота. Человек здесь, и он ушел. Есть также отражение.
Ты не боишься за свою жизнь?
Только глупец не боится. Медик - первый, кто стреляет. На одного спасателя приходится восемь солдат.
Поездка на любую миссию может быть билетом в один конец. Мы делаем все возможное. Один в безопасности, один в безопасности. Командование тоже не посылает нас в ад. Если они знают, что это очень плохо, мы не поедем. Они отправят нас туда через день или два. Я этого не допускаю, но страх есть.
Ты был ранен, попал в бедро.
У русских есть образец обстрелов — в квадратах. Я слышал, как они стреляли, потому что мы были очень близки. Я видел, как пуля летела в одно место, максимально близкое к нам. Поэтому я подумал, что он пойдет дальше — в другое место. Но они ударили то же самое. Я прыгнул в курятник, мне оставалось только прикрыть голову, глаза, но я не прикрывал задницу. И меня ударили в бедро. Меня ударили мелким осколком.
Все смеются сейчас, когда я сам их выкопал. Но когда командир узнал, ему пришлось отправиться в больницу. Потому что в такой пуле может быть что угодно.
Ты не думал, что пора домой?
Нет, потому что я знаю, что там недостаточно врачей. Если бы все хотели сейчас вернуться домой, украинцы были бы одни. Мы объясняем это так: есть война, и вот что происходит.
Что вы сказали детям, когда решили пойти на войну?
Я на войне, как храбрый, как опасный, и я вел себя как трус. О том, что я на войне, моя семья узнала от меня по телефону, как только я оказался на сцене в легионах, подразделении, базе.
Ты боялся, что они остановят тебя?
Да, я боялся, что они меня остановят. Первые объяснения появились только через 83 дня. Я пытался звонить, писать. Сначала эти разговоры не задерживались. Дети со мной не разговаривали. Они обвиняли друг друга. Это была вторая, внутренняя, семейная война. И эта война была из-за меня. Только позже мы объяснили это друг другу, когда я пришел на свой первый пас.
С одной стороны, дети гордятся мной, они восхищаются мной, но с другой - они беспокоятся обо мне. И они предпочли бы, чтобы я сидел рядом с ними на заднице.
Убедят ли вас не возвращаться на войну?
Да, они пытаются. Они пытаются перенаправить меня в фонд, в какую-то ассоциацию. Они хотят, чтобы я помог другим способом. Я не говорю нет, я думаю об этом. Но с другой стороны, меня все время тянет к этому. Теперь я также тренировался три дня, чтобы проверить свои навыки. Очень близко, потому что это было в шести километрах от российской границы. Прямо сейчас я не знаю, что делать. В моей голове большой беспорядок.
Вы останетесь со своим батальоном до конца войны?
Может быть, не с этим, но да - с Украиной до конца. Я не остановлюсь.
Здесь вы можете поддержать сбор средств.